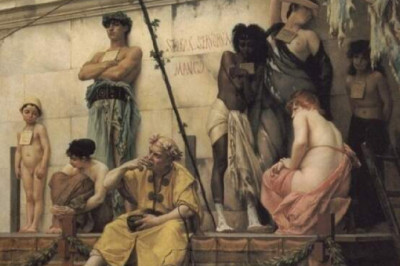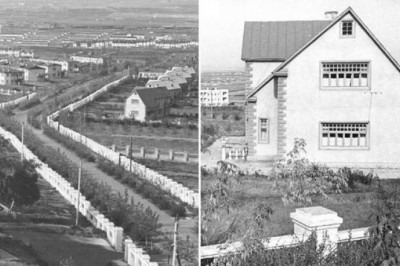Реабилитация такого рода заболеваний стала насущной проблемой всего XX столетия, актуальной до сих пор.
В поисках причин и методов лечения
Количество военнослужащих, у которых нарушилась координация движений, появились проблемы со сном, звон в ушах, амнезия, беспричинный тремор, судороги и другие симптомы явного психического расстройства, после начала Первой мировой оказалось настолько велико, что это стало проблемой для командования. Один австралийский солдат в письме домой так описывал своё состояние:
«Вы можете быть немного удивлены, если узнаете, что я в госпитале и поражен shell-shock, от которого у меня отнялась речь и пропал слух. Уже прошло шестнадцать дней, как это произошло… Мы были в окопах и старались выжить, но тут двое из нас заметили немецкого пулеметчика в укрытии, так что мы загорелись идеей захватить его. Я помню лишь, как рвался к нему, когда мощный взрыв произошел у моей головы. Казалось, что этот взрыв был в моей голове, все заволокло тьмой. Я пытался кричать и не мог, как не мог и слышать моих товарищей, только этот ужасный шум в моей голове все время. Я ничего не помню до того момента, как я попал на корабль [который перевез солдата в госпиталь в Англию – прим. авт.]».
К 1916 году военные медики всех воюющих армий искали эффективные средства для лечения таких солдат – которые могли не иметь видимых травм, но которые непрерывно страдали и не были способны более ни к боевым действиям, ни к жизни в тылу.
 Один из самых известных снимков жертв «снарядного шока» — британский солдат, 1916 год…
Один из самых известных снимков жертв «снарядного шока» — британский солдат, 1916 год…
Британский историк Фиона Рейд пишет, что более 80 000 случаев психических расстройств было зафиксировано в британских частях на Западном фронте, от 200 000 до 300 000 случаев в немецкой армии, во французской число сходных потерь было примерно таким же, как и у немцев, а возможно и выше. Для понимания ситуации в русской армии можно процитировать историка Александра Асташова:
«Начиная с осени 1915 года количество душевнобольных в армии стало нарастать. К концу первой половины войны их количество составило 50 000, то есть в соотношении с общим количеством призванных – 0,5%. Случаи помешательства особенно усилились во время тяжелых боев лета 1916 года. Солдаты сообщали, что можно только «глядючи сойти с ума». В письмах отмечалось, что воевать может только «ненормальный человек», так как «эта война сгубила не пулей, а духом», стали приходить сообщения о «массовых психических заболеваниях» в районе боевых действий».
Эти случаи ставили в тупик военных врачей, поскольку число заболевших было чрезвычайно велико по сравнению с военными конфликтами прежней эпохи. Как бы его ни называли, «shell shock» или «военный невроз», это явление привлекло внимание психиатров и неврологов, но внятного объяснения и лечения болезни никто из них предложить не мог.
Впервые термин употребил в 1915 году в своей статье для журнала «Lancet» британский психолог Чарльз Майерс, работавший с пострадавшими солдатами Британского экспедиционного корпуса во Франции. Как подчёркивает Фиона Рейд, «диагноз был настолько же эмоционально верен, насколько медицински неточен». Военные медики пытались изобрести разные термины на замену предложенного Майерсом, но не добились успеха. Во французской армии обсуждались такие варианты, как «commotion cerebrale» (контузия), «accidents nerveux» (нервное потрясение) и «obusite» (возможно, калька с английского, «obus» по-французски означает снаряд). Немцы, как и русские психиатры, нарекли это «военным неврозом» или «военной истерией», но в народной среде таких больных называли Kriegszitterer (т.е. те, кто дрожит от войны) или Schüttler (трясуны).
 …и его оппонент — пленный немецкий солдат, пребывающий в состоянии полной прострации
…и его оппонент — пленный немецкий солдат, пребывающий в состоянии полной прострации
Во Франции, остро нуждавшейся в каждом солдате, которого можно было вернуть в строй, к лету 1917 года при каждой армии был учреждён свой собственный госпиталь на 200 коек, специализировавшийся на неврологических больных, примерно в 25 км от фронта. Тяжёлых пациентов оттуда направляли в глубокий тыл в психиатрические и неврологические больницы. Всех солдат с неврологическими диагнозами немедленно отправляли в эти армейские госпитали, поскольку врачи хотели начать лечение до того, как процесс станет необратимым.
После войны, как описывает Фиона Рейд, ветераны, страдавшие от «shell shock», получали пенсии по инвалидности, только если нуждались в постоянном больничном лечении. Но в этом случае вся их мизерная пенсия уходила на оплату медицинских услуг. Таких солдат часто называли «les morts-vivants» (живые мертвецы). Они не пользовались поддержкой со стороны политиков и не замечались обществом. Символично, что жёны этих помещённых в больницы «живых мертвецов» также получали пенсии, одинаковые с пенсиями вдов погибших на войне. Лишь в 1929 году этим людям стали выплачивать постоянные пенсии, как и другим инвалидам войны.
В литературе и кино
Писатели или режиссёры после войны иногда обращались к образам безумцев, которые оказались заключены в тюрьму своего военного опыта, не способные выйти оттуда уже никогда. В романе Ремарка «Возвращение» дан яркий образ ветерана, страдающего от такого заболевания. Любопытно, что писатель, сам ветеран, видит разницу между сумасшедшими и контуженными, хотя многие демонстрировали схожие симптомы:
«Гизекке здоровается с нами за руку. Мы поражены его поведением: мы ждали, что он, как обезьяна, будет прыгать, беситься, гримасничать или, по меньшей мере, трястись, как контуженные, что просят милостыню на углах, но он только жалко улыбается, как-то странно кривя губы…
Во время боев под Флери Гизекке разрывом снаряда засыпало, и, придавленный балкой, он долго пролежал, прижатый лицом к вспоротому до самого бедра животу другого солдата. У того голова не была засыпана; он все время кричал, и с каждым его стоном волна крови заливала лицо Гизекке. Постепенно у раненого стали выпирать наружу внутренности, и это грозило Гизекке удушьем. Чтобы не задохнуться, он то и дело втискивал их обратно в живот раненого. И всякий раз слышал при этом глухой рев несчастного. Все это Гизекке рассказывает вполне гладко и последовательно.
– Так вот каждую ночь, – говорит он, – я задыхаюсь, и комната наполняется скользкими белыми змеями и кровью» (пер. с нем. М. Горкина).
В искусстве начала XXI века трагический образ солдата, не выдержавшего испытание войной и потерявшего рассудок, продолжает оставаться актуальным. Французский режиссер Габриэль Ле Бомэн написал сценарий и снял в 2005 году свой первый в карьере фильм «Фрагменты Антонена» («Les fragments d'Antonin»), посвящённый судьбе одного из бесчисленных французских «пуалю», оказавшихся в психиатрических лечебницах после войны.
 Попытка лечения жертвы «снарядного шока» электрическим током…
Попытка лечения жертвы «снарядного шока» электрическим током…
Сюжет фильма достаточно прост. В 1919 году в одной из больниц содержится ветеран Антонен Версе (роль, доставшаяся актеру Грегори Деранжеру). Его случай не уникален, но обстоятельства его госпитализации всё же несколько необычны. Он был найден бредущим по дороге, абсолютно дезориентированный, не способный говорить и вообще устанавливать какой-либо контакт. Никаких видимых повреждений, ран, контузий у него не наблюдалось, потому не было понятно, почему он находится в таком состоянии и как именно его можно вывести из него.
Сам режиссёр говорил после премьеры, что замысел картины возник у него после просмотра документального фильма, снятого для одного музея и посвящённого боевым психическим травмам Первой мировой войны. Режиссёр изучил архивы и нашёл серию киноплёнок 1917–1920 гг., на которых были запечатлены «шокирующие картины»: ветераны были засняты в состоянии помрачения рассудка и удивительного возбуждения. «Что они там видели? Что они совершили, чтобы стать такими?» – вопрошает Ле Бомэн.
Антонен привлекает внимание военного медика, профессора Лабрусса (Орельен Рекуан), который стремится разобраться, что же произошло с солдатом. Другой медик, профессор Лантье (Нильс Ареструп), пытается избавиться от пациентов Лабрусса, пугающих других больных и посетителей больницы. Дальше в фильме разворачивается серия флэшбеков, которые раскрывают перед нами события, приведшие Антонена в такое состояние. Одновременно демонстрируются методы профессора Лабрусса, который посредством вещей, найденных у солдата (те самые фрагменты, что вынесены в название), а также каких-то обычных для войны деталей обмундирования пытается пробудить какие-то воспоминания и заставить Антонена заговорить. Но солдат лишь настойчиво бормочет несколько имён, которые ничего не говорят врачам и никак не объясняют произошедшее.
 …и умиротворяющими занятиями на мелкую моторику
…и умиротворяющими занятиями на мелкую моторику
По мнению режиссера фильма, утрата Антоненом рассудка может объясняться теми картинами, которые открылись ему во время войны. Сам Версе – бывший учитель, тонко чувствующий других людей и природу человек, который подобно поэтам или писателям много думает о войне и её жертвах. Ретроспективно перед нами разворачиваются картины окопной жизни и атаки вражеских позиций (здесь, правда, режиссёр не обошёлся без некоторых штампов), ужаса прифронтового госпиталя (особенно сильна сцена, в которой хирург определяет, кого из раненых нужно спасать, руководствуясь жёсткой логикой военного), столкновения маленького человека и военной машины (сцена расстрела Симона Криефа и танец негров из колониальных войск).
Каждый из встретившихся Версе героев размывает, как говорит режиссёр в своём интервью, «тонкую грань между добром и злом» и переводит «внешний конфликт в конфликт внутренний». Наконец, после роковой встречи с несколькими дезертирами, Антонен не выдерживает накопившегося груза кошмаров и сходит с ума. Режиссёр дарит надежду на спасение, которая приходит в образе медсестры Маделены (Анук Гринберг). Единственный упрёк, который можно адресовать режиссёру в данном случае, это то, что встреча героев в больнице слишком хороша для простой случайности.
Надо отметить хорошую работу историков-консультантов, а также художников данного фильма. Атмосфера фронта, тёмные, серо-синие тона, в тон французской военной форме, лесов, укреплений, прифронтового госпиталя и окопов, контрастируют с яркими и залитыми светом сценами послевоенной лечебницы. Вполне достоверна и служба, которой занят Антонен Версе – она действительно существовала в годы Первой мировой войны. Почтовые голуби, повозка с которыми вручена главному герою, многое сделали для обеспечения связи между военными подразделениями и штабом во время битвы при Вердене, на Сомме и других крупных сражениях Великой войны.
Кадры фильма «Фрагменты Антонена» («Les fragments d'Antonin»)
 В начале фильма идут подлинные кадры кинохроники, показывающие больных "военным неврозом"
В начале фильма идут подлинные кадры кинохроники, показывающие больных "военным неврозом"



«Военный невроз», «контузия», «shell shock» в годы Первой мировой войны часто мыслились как последствие реальной физической травмы или неких невероятных ужасов, пережитых заболевшими. Спустя столетие «shell shock» выступает как один из значимых символов мирового конфликта, как «место памяти» (говоря словами французского историка Пьера Нора), которое вбирает в себя все самые травматичные и болезненные моменты войны. Режиссёр Габриэль Ле Бомэн объяснял:
«Я не хотел, однако, свести замысел такой исторической широты только к началам военной психиатрии. Я хотел также поднять в этом фильме универсальный вопрос, возникающий при каждом конфликте: это вопрос личности, сталкивающейся с насилием, навязанным государством, и разрушения морали, вызванного этим».