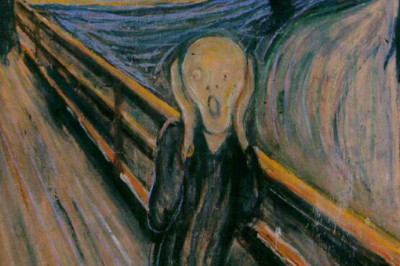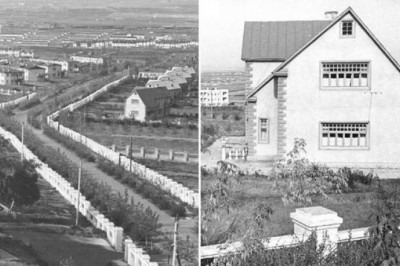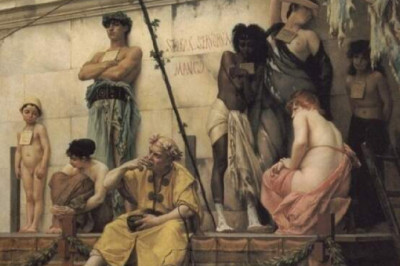Первые три цитаты — из дневников Достоевского за 1873-й год: в главе «По поводу выставки» — его размышления, посвящённые отправке картин русских художников на Международную выставку в Вену.
Архип Куинджи. На острове Валааме
 На острове Валааме Архип Иванович Куинджи 1873
На острове Валааме Архип Иванович Куинджи 1873
— Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить?..
Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скудная природа», вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну, а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»): на первом плане болото и болотная поросль, на заднем — лес; оттуда — туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто проницает всего, вы почти ее чувствуете, и на средине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, — самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.
Василий Перов. Охотники на привале
 Охотники на привале Василий Григорьевич Перов 1871
Охотники на привале Василий Григорьевич Перов 1871
…но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется… Что за прелесть! Конечно, растолковать — так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы всё только смотря на картину. Ну, а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну, а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.
Фёдор Бронников. Гимн пифагорейцев восходящему солнцу
 Гимн пифагорейцев восходящему солнцу Федор Андреевич Бронников 1869
Гимн пифагорейцев восходящему солнцу Федор Андреевич Бронников 1869
Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарования. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова: иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.
Все остальные цитаты — из статьи «Выставка в академии художеств за 1860−61 год». Она была опубликована в октябре 1861 года в журнале «Время» анонимно. Одни исследователи приписывают её Достоевскому и включают в собрания сочинений, другие считают, что Достоевский сочинял обзор с соавтором или был только редактором, позволившим себе некоторые вставки. Это статья упоминается в описании открывшейся в Третьяковской галерее выставки, об обращении куратора к ней говорит и выбор экспонатов, упомянутых в статье из журнала «Время».
Валерий Якоби. Привал арестантов
 Привал арестантов Валерий Иванович Якоби 1861
Привал арестантов Валерий Иванович Якоби 1861
На выставке есть одна картина, перед которой с утра до вечера стоит толпа зрителей. Один уходит, другой подходит; теснятся, пробираются, чтобы как-нибудь посмотреть поближе, пролезают между толпою зрителей и картиной…
Указатель выставки гласит, что она изображает «Партию арестантов на привале», что писал ее г-н Якоби, что цена ей 1 500 рублей и что художник получил за нее первую золотую медаль, стало быть, на счет общественный поедет за границу на три или на четыре года для дальнейшего развития своего таланта. Таким образом, художник получил высшую награду, какая только может быть дана ученику Академии. К тому же еще на картине, весьма скоро после начала выставки, явился билетик с надписью: продана. Выходит, что цель художника достигнута с большою полнотою… Со всеми этими благами мы поздравляем художника, которого карьера начинается такими блестящими задатками, и желаем ему дальнейших, еще более блестящих и звонких успехов.
Но, во имя художества, скажем несколько слов о самой картине…
Картина поражает удивительною верностью. Всё точно так бывает и в природе, как представлено художником на картине, если смотреть на природу, так сказать, только снаружи. Зритель действительно видит на картине г. Якоби настоящих арестантов, так как видел бы их, например, в зеркале, или в фотографии, раскрашенной потом с большим знанием дела. Но это-то и есть отсутствие художества. Фотографический снимок и отражение в зеркале — далеко еще не художественные произведения. Если бы и то и другое было художественным произведением, — мы могли бы довольствоваться только фотографиями и хорошими зеркалами, и самая Академия Художеств была бы одною огромною бесполезностью… В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически. Истинный художник этого не может: в картине ли, в рассказе ли, в музыкальном ли произведении непременно виден будет он сам; он отразится невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития. Это не требует и доказательства. Пусть два человека рассказывают о каком-нибудь одном, хоть, например, обыкновенном уличном событии. Очень часто из другой комнаты, даже вовсе не видя самих рассказчиков, можно угадать и сколько которому лет, и в какой службе который из них служит, в гражданской или в военной, и который из двух более развит, и даже как велик чин каждого из них…
Художественности в этом смысле в картине г. Якоби нет ни на волос; он фотографировал каждого из своих субъектов и не картину написал, а совершил следственную ошибку. Все у него равно негодяи, и все одинакие, как будто потому, что в его мнении сравняла их этапная цепь. Все у него равно безобразны, начиная с кривого этапного офицера до клячи, которую отпрягает мужик. Есть одно только исключение: это исключение — герой картины, покойник, накрытый изорванной рогожей. Этот, вероятно, был красавец, судя по остаткам его, но так и следовало по академическим требованиям; ему невозможно было придать черт более обыкновенных или менее классических: так и виден человек родовитый среди подлого народа, подлого в том смысле, как он разумел это весь свой век.
Из этой картины очевидно, что г. Якоби, ученик академии, употребил все свои силы, всё старание, чтобы правильно, верно, точно передать действительность. Это весьма полезное, необходимое старание и весьма похвальное для ученика академии. Но это покамест еще только механическая сторона искусства, его азбука и орфография. Конечно, и тем, и другим надо овладеть совершенно, прежде нежели приступить к художественному творчеству. Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной.
А знаете ли вы, г. Якоби, что, гонясь до натянутости за правдой фотографической, вы уж по этому одному написали ложь? Ведь ваша картина не верна положительно. Это мелодрама, а не действительность. Вы слишком гнались за эффектом и натянули эффект. Вы не согласились даже пощадить этот разодранный тулуп на мужике. Ну когда же так дерутся тулупы (вдоль по всей спине)? Вам нужен был хаос, беспорядок во что бы то ни стало. Зачем вор ворует с пальца перстень именно в ту минуту, когда подошел офицер? Будьте уверены, что еще прежде, чем доложили офицеру, что умер человек, — арестанты все разом, всем кагалом сказали ему, что у него есть золотой перстень на пальце, да еще торопились высказать это наперерыв друг перед другом, может быть, даже перессорились во время рассказа. Будьте уверены тоже, что прежде еще, чем партия двинулась из Москвы и прежде чем новый арестант с перстнем показался в кругу своих будущих товарищей, арестанты, еще не видев его, уже знали, что у него есть на пальце перстень. Известно ли вам тоже, что никаким образом вор не мог украсть из-под телеги перстень? Знаете ли почему? А потому, что этот перстень уже слишком известен партии. Еще когда этот арестант хворал и готовился умереть, у многих, очень у многих, была эта мысль: «как бы украсть, когда умрет!» Допустят ли теперь все остальные воспользоваться таким случаем какому-нибудь Ваське Миронову, когда того же хотели и Иванов, и Петров и Александров? Да они из зависти не дадут его украсть. А если бы украл, так разыскали бы сами тотчас же. Каждый ду мал: «коли не мне, так никому и не доставайся!» и каждый друг за другом смотрел во все глаза. Но вы погнались за эффектом; вам непременно нужно было, чтоб именно в ту минуту, когда подошел офицер, ловкий вор и совершил бы свою покражу. Тут и ловкость воровства, тут и святотатство — все вместе очень эффектно. Заметим тоже, что, прежде чем смотреть в мертвый глаз, офицер наверно бы посмотрел на перстень. Ведь он собственность казны: арестант не может иметь имущества; пропустил ли бы это офицер? Мы уверены, что он (из казенного интереса, разумеется) даже на сапоги его (довольно хорошие) посмотрел прежде, чем на глаз. Драка арестантов за картами тоже как будто подобрана для эффекта. Поверьте, что те арестанты не могут сидеть в эту минуту за картами, а непременно бы подошли посмотреть, что будет делать офицер с мертвецом, и особенно — что станется с перстнем?
Есть еще одна очень забавная фотографическая неверность; об ней, конечно, говорить бы не стоило. Арестанты в кандалах, один даже натер себе рану от них, а все без подкандальников. Будьте уверены, что не только нескольких тысяч, но даже одной версты нельзя пройти без кожаных подкандальников, чтобы не стереть себе ногу. А на расстоянии одного этапа без них можно протереть тело до костей. Между тем их нет. Вы, конечно, их забыли, а может быть и не справились совершенно с действительностью. Разумеется, нельзя ставить этого в значительный недостаток, хотя это почти точно то же, как если б кто рисовал лошадей без хвостов. Вы сами же гнались за фотографическою верностью; оттого мы это и замечаем. (Цитата приведена с большими сокращениями)
Василий Перов. Проповедь в селе
 Проповедь в селе Василий Григорьевич Перов 1861
Проповедь в селе Василий Григорьевич Перов 1861
— «Проповедь в селе» г-на Перова отличается очаровательною наивностью. Тут почти всё правда, та художественная правда, которая дается только истинному таланту: и мужики, и бабы, и заснувший помещик, и ясное небо, и крестный ход, и ребятишки.
Михаил Клодт. Последняя весна
 Последняя весна Михаил Петрович Клодт 1861
Последняя весна Михаил Петрович Клодт 1861
— Еще одна замечательная картина отличена высшей академическою наградой, первою золотою медалью: картина г. Клодта 2-го «Последняя весна». Больная, умирающая девица, сидит в большом кресле против открытого окна. У нее чахотка, дольше весны она не проживет, и домашние это знают. Сестра ее стоит у окна и плачет; другая сестра стоит возле больной на коленях. За ширмами отец умирающей и мать сидят и толкуют между собой. Невеселый должен быть их разговор; нехорошо положение умирающей, скверно положение сестер ее, и все это освещено прекрасным, ярким весенним солнцем. Вся картина написана прекрасно, безукоризненно, но в итоге картина далеко не прекрасная. Кто захочет повесить такую патологическую картину в своем кабинете или в своей гостиной? Разумеется никто, ровно никто. Это беспрерывное memento-mori для себя и для своих ближних мы все знаем очень хорошо и весьма удобно можем обойтись без напоминанья, которое к тому же ровно ни к чему не служит, кроме постоянной и непрерывной отравы жизни. Сама по себе смерть — отвратительное дело; но ожидание ее гораздо еще отвратительнее. Художник выбрал себе, таким образом, чрезвычайно трудную задачу: отвратительное представить прекрасно; это никогда никому не удастся. Смерть близких более или менее каждому из нас знакома. Это такой роковой, тупой, бессмысленный удар, к которому, говорят, надо быть всякому готовым. Это совершенный вздор; как ни готов бывает к нему человек, но все-таки он как будто неожидан. Есть драматические произведения, в которых смерть выводится на сцену. Почему же и нет? Смерть — дело житейское, как говорят плакальщицы, промышляющие по кладбищам. Но представьте же себе, что актер или актриса стали бы умирать на сцене по всем правилам патологии, со всевозможною не сценическою, а естественною правдой, передавая всю агонию, одно явление за другим, так как это бывает в природе: то умирающего поведет, как кусок бересты в печке; то он привстанет и посмотрит большими мертвыми глазами, то он лепечет что-то сухим, воспаленным языком и синими пальцами хватает, будто щиплет воздух, а зрачки катаются в белках, как у плохого провинциального актера, играющего Отелло, и ноги между тем стынут, и пальцы на ногах подкорчиваются. Да все зрители разбежались бы от такого представления. А г. Клодт 2-й представляет нам агонию умирающей и с нею почти что агонию всего семейства, и не день, не месяц будет продолжаться эта агония, а вечно, пока будет висеть на стене эта прекрасно выполненная, но злосчастная картина. Никакой зритель не выдержит, — убежит. Нет, художественная правда совсем не та, совсем другая, чем правда естественная.
Живопись в произведениях Достоевского
Это отдельная тема: Достоевский упоминает Тициана, Крамского и не только.
— У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть; душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы невеселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене. (Федор Достоевский, роман «Идиот»)
Речь о картине Ганса Гольбейна Младшего «Мадонна бургомистра Мейера» (1526). Есть две очень похожие картины с такими названием. Во времена Достоевского оригиналом считалась версия из собрания Дрезденской галереи: её писатель и видел. Вторая версия называется «Дармштадская Мадонна» (она долгое время находилась в Дармштадте).

Достоевский закончил свой роман «Идиот» в январе 1869 года. А в 1871 году в Дрездене состоялась выставка, на которой встретили две «Мадонны» Гольбейна. Тогда искусствоведы, используя стилистический анализ, их тщательно изучили и вынесли вердикт: дрезденская картина — копия, дармштадская — оригинал. Дрезденский спор о Гольбейне считается моментом, когда история искусства обзавелась собственной методологией и превратилась в науку. Позже, когда появились ещё и технические возможности для исследования картин, они подтвердили вывод, сделанный учёными в 1871 году.
Откуда взялись две картины?
Дело в том, что через сто лет после создания «Мадонна» Гольбейна попала к антиквару Мишелю Ле Блону. Решив продать оригинал, он сделал копию для себя, но потом продал и копию тоже, выдав её за произведение Гольбейна. Оригинал — «Дармштадская Мадонна» — сейчас находится в частных руках: в 2011 году её купил немецкий предприниматель и коллекционер Райнхольд Вюрт (вторая репродукция выше).
Что касается копии, которую видел Достоевский, она и сейчас хранится в Дрезденской картинной галерее (её репродукция слева). Установлено, что копию примерно в 1637 году исполнил художник Бартоломеус Сарбург (Bartholomäus Saarburgh).