
Чацкий и Фамусов — о разнице между поколениями
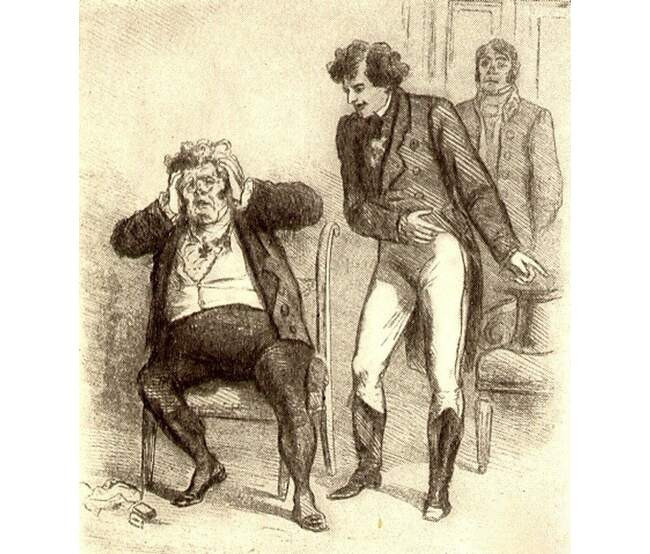 Чацкий и Фамусов. Иллюстрация Михаила Башилова к комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». 1862 год
Чацкий и Фамусов. Иллюстрация Михаила Башилова к комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». 1862 год
Главный герой «Горя от ума» доказывает отцу своей возлюбленной, что старшее («героическое») поколение ничем не отличается от младшего, — и критикует всю систему отношений между дворянством и престолом:
Ч а ц к и й
Прямой был век покорности и страха,
Всё под личиною усердия к царю.
Я не об дядюшке об вашем говорю;
Его не возмутим мы праха:
Но между тем кого охота заберет,
Хоть в раболепстве самом пылком,
Теперь, чтобы смешить народ,
Отважно жертвовать затылком?
А сверстничек, а старичок
Иной, глядя на тот скачок,
И разрушаясь в ветхой коже,
Чай, приговаривал: — Ах! если бы мне тоже!
Хоть есть охотники поподличать везде,
Да нынче смех страшит и держит стыд в узде;
Недаром жалуют их скупо государи. —
Ф а м у с о в
Ах! боже мой! он карбонари!
Кирсанов и Базаров — о западной и отечественной науке
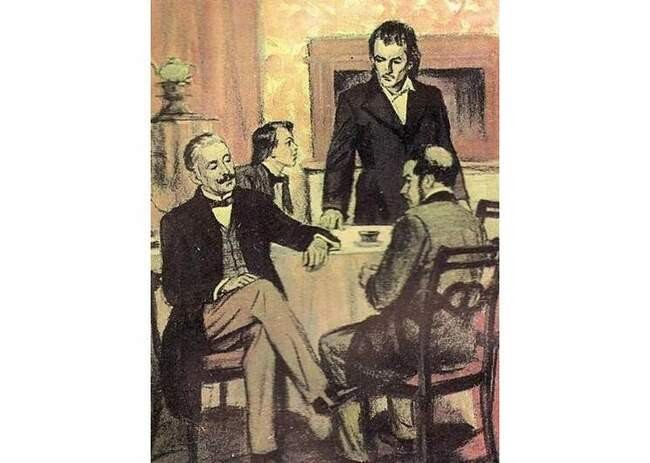 Спор Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Иллюстрация Давида Боровского к роману Ивана Тургенева «Отцы и дети»
Спор Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Иллюстрация Давида Боровского к роману Ивана Тургенева «Отцы и дети»
Первая стычка «отцов» и «детей»: обсуждение русских и немецких ученых перерастает в полемику о том, что важнее — наука или искусство:
«— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил, в свою очередь, Павел Петрович.
— Физикой, да; вообще естественными науками.
— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.
— Да, немцы в этом наши учители, — небрежно отвечал Базаров. <…>
— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.
— Тамошние ученые дельный народ.
— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?
— Пожалуй, что так.
— Это очень похвальное самоотвержение, — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?
— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.
— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.
— Не все, — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение».
Болконский и Безухов — о том, как жить
 Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук в роли Андрея Болконского и Пьера Безухова. Кадр из фильма «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого. Режиссер Сергей Бондарчук. 1965–1967 годы
Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук в роли Андрея Болконского и Пьера Безухова. Кадр из фильма «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого. Режиссер Сергей Бондарчук. 1965–1967 годы
Программный диалог князя Андрея и Пьера: первый — разуверившийся в любых объективных критериях скептик, другой — страстный филантроп:
«— <…> Жить только так, чтобы не делать зла, чтобы не раскаиваться, этого мало. Я жил так, я жил для себя и погубил свою жизнь. И только теперь, когда я живу, по крайней мере стараюсь (из скромности поправился Пьер) жить для других, только теперь я понял все счастие жизни. Нет, я не соглашусь с вами, да и вы не думаете того, что вы говорите. — Князь Андрей молча глядел на Пьера и насмешливо улыбался.
— Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь, — сказал он. — Может быть, ты прав для себя, — продолжал он, помолчав немного, — но каждый живет по-своему: ты жил для себя и говоришь, что этим чуть не погубил свою жизнь, а узнал счастие только, когда стал жить для других. А я испытал противуположное. Я жил для славы. (Ведь что же слава? та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы.) Так я жил для других и не почти, а совсем погубил свою жизнь. И с тех пор стал спокоен, как живу для одного себя.
— Да как же жить для одного себя? — разгорячаясь, спросил Пьер. — А сын, сестра, отец?
— Да это все тот же я, это не другие, — сказал князь Андрей, — а другие, ближние, le prochain, как вы с княжной Марьей называете, это главный источник заблуждения и зла. Le prochain — это те твои киевские мужики, которым ты хочешь делать добро».
Иван и Алеша Карамазовы — о несправедливости мироустройства
 Алеша и Иван Карамазовы. Иллюстрация Михаила Ройтера к роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы». 1956 год
Алеша и Иван Карамазовы. Иллюстрация Михаила Ройтера к роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы». 1956 год
Средний (и самый рефлексирующий) из трех братьев Карамазовых открывает младшему свои заветные мысли: может ли мировая гармония строиться на страданиях детей — и не лучше ли вернуть Создателю билет в жизнь?
«— Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.
— Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша.
— Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, — проникновенно сказал Иван. — Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.
— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?
— Нет, не могу допустить. Брат, — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, — ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: „Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои“».
Доктор Самойленко и зоолог фон Корен — о человеческой натуре
 Доктор Самойленко и зоолог фон Корен. Кадр из фильма «Дуэль» по одноименной повести Антона Чехова. Режиссер Довер Косашвили. 2010 год
Доктор Самойленко и зоолог фон Корен. Кадр из фильма «Дуэль» по одноименной повести Антона Чехова. Режиссер Довер Косашвили. 2010 год
Герои чеховской «Дуэли» обсуждают за обедом общего знакомого — непутевого, опутанного долгами и случайными связями Лаевского, который сравнивает себя с Онегиным и Печориным:
«— <…> Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он — роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.
— Замолчи! — вспыхнул Самойленко. — Я не позволю, чтобы в моем
присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!
— Не перебивай, Александр Давидыч, — холодно сказал фон Корен. — Я сейчас кончу. Лаевский — довольно несложный организм. Вот его нравственный остов: утром туфли, купанье и кофе, потом до обеда туфли, моцион и разговоры, в два часа туфли, обед и вино, в пять часов купанье, чай и вино, затем винт и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и lа femme. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется — все сводится к вину, картам, туфлям и женщине».
Кирилл Лютов и Гедали — о революционном насилии
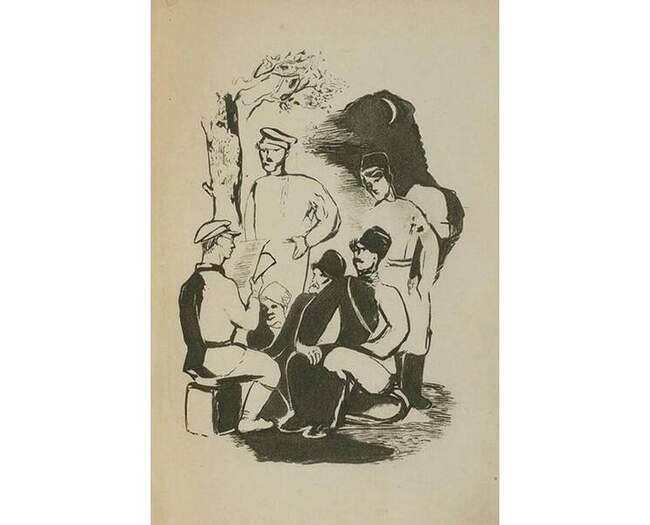 Иллюстрация Михаила Горшмана к сборнику рассказов Исаака Бабеля «Конармия». 1933 год
Иллюстрация Михаила Горшмана к сборнику рассказов Исаака Бабеля «Конармия». 1933 год
Повествователь «Конармии» пробует переспорить еврея Гедали — жертву времени, который не понимает, почему хорошее дело (смена власти) так тесно связана с плохим (жестокостью):
«— Революция — скажем ей „да“, но разве субботе мы скажем „нет“? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — „Да“, кричу я революции, „да“, кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу…
— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза…
— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: „Отдай на учет твой граммофон, Гедали…“ — „Я люблю музыку, пани“, — отвечаю я революции. — „Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция…“
— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция…
— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..»
Володя Макаров и Андрей Бабичев — о логике истории
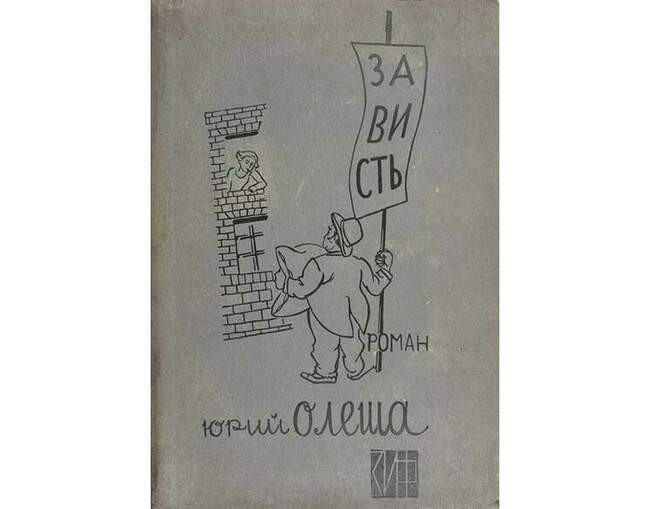 Обложка романа Юрия Олеши «Зависть». 1929 год
Обложка романа Юрия Олеши «Зависть». 1929 год
Вообще-то, основные антагонисты «Зависти» Юрия Олеши — это «колбасник» Андрей Бабичев и поэт Николай Кавалеров, но даже в среде новых людей есть разногласия. В этой сцене советский супергерой Володя Макаров объясняет своему старшему приятелю Бабичеву, ради чего в действительности произошла революция:
«— Я думал, почему злятся люди или обижаются, — сказал он. — У таких людей нет понятия о времени. Тут незнакомство с техникой. Время — ведь это тоже понятие техническое. Если бы все были техниками, то исчезли бы злоба, самолюбие и все мелкие чувства. Ты улыбаешься? Понимаешь ли: нужно понимать время, чтобы освободиться от мелких чувств. Обида, скажем, продолжается час или год. У них хватает воображения на год. А на тысячу лет они не разгонятся. Они видят только три-четыре деления на циферблате, ползут, тычутся… Куда им! Всего циферблата не охватят. Да вообще: скажи им, что есть циферблат, — не поверят!
— Так почему же только мелкие чувства? Ведь и высокие чувства коротки. Ну… великодушие?
— Видишь ли. Ты меня вот послушай. В великодушии есть какая-то правильность… техническая. Ты не улыбайся. Да, да. Нет, в самом деле… я, кажется, запутался. Ты меня смущаешь. Нет, подожди! Революция была… ну, как? Конечно, очень жестокая. Хо! Но ради чего она злобствовала? Была она великодушна, верно? Добра была — для всего циферблата… Верно? Надо обижаться не в промежутке двух делений, а во всем круге циферблата… Тогда нет разницы между жестокостью и великодушием. Тогда есть одно: время. Железная, как говорится, логика истории. А история и время одно и то же, двойники. Не смейся, Андрей Петрович. Я говорю: главным чувством человека должно быть понимание времени».
Федор Годунов-Чердынцев и Кончеев — о русских писателях
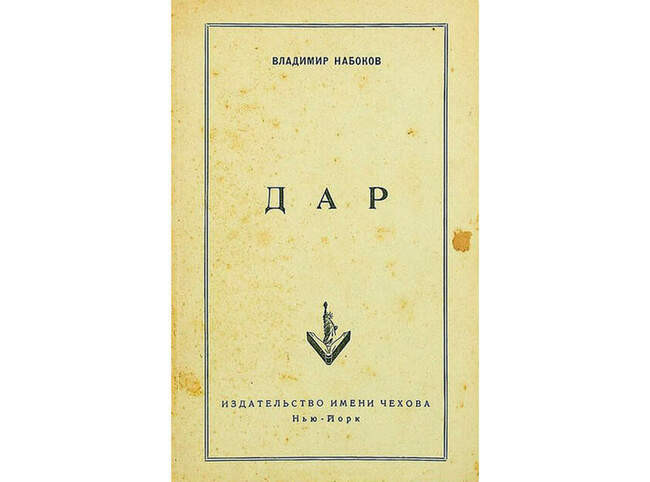 Обложка первого полного издания романа Владимира Набокова «Дар». Нью-Йорк, 1952 год
Обложка первого полного издания романа Владимира Набокова «Дар». Нью-Йорк, 1952 год
Начинающий поэт и мэтр из последнего русского романа Владимира Набокова «Дар» выясняют, чего стоят русские писатели:
«— Видите ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и подстольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком.
— Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает — после самого снисходительного отбора — не более трех — трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро.
— Дайте мне, пожалуй, примеры, чтобы я мог опровергнуть их.
— Извольте: если раскрыть Гончарова или…
— Стойте! Неужто вы желаете помянуть добрым словом Обломова? „Россию погубили два Ильича“ — так, что ли? Или вы собираетесь поговорить о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? Или может быть — стиль? Помните, как у Райского в минуты задумчивости переливается в губах розовая влага? — точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?
— Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд… Что вы скажете, например, о Лескове?
— Да что ж… У него в слоге попадаются забавные англицизмы, вроде „это была дурная вещь“ вместо „плохо дело“. Но всякие там нарочитые „аболоны“… — нет, увольте, мне не смешно. А многословие… матушки! „Соборян“ без урона можно было бы сократить до двух газетных подвалов. И я не знаю, что хуже, — его добродетельные британцы или добродетельные попы.
— Ну а все-таки. Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напомаженным, зевом? Или молния, ночью освещающая подробно комнату, — вплоть до магнезии, осевшей на серебряной ложке?
— Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: lividus. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, — и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком!»
Воланд, Берлиоз и Бездомный — о том, есть ли Бог
 Берлиоз, Воланд и Бездомный. Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Режиссер Владимир Бортко. 2005 год
Берлиоз, Воланд и Бездомный. Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Режиссер Владимир Бортко. 2005 год
Советский редактор Берлиоз и поэт Бездомный встречают на Патриарших дьявола инкогнито и ввязываются в теологический диспут:
«— <…> Ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… — тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье — совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет — поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком».
Штурмбанфюрер Лисс и Михаил Мостовский — о нацизме и коммунизме
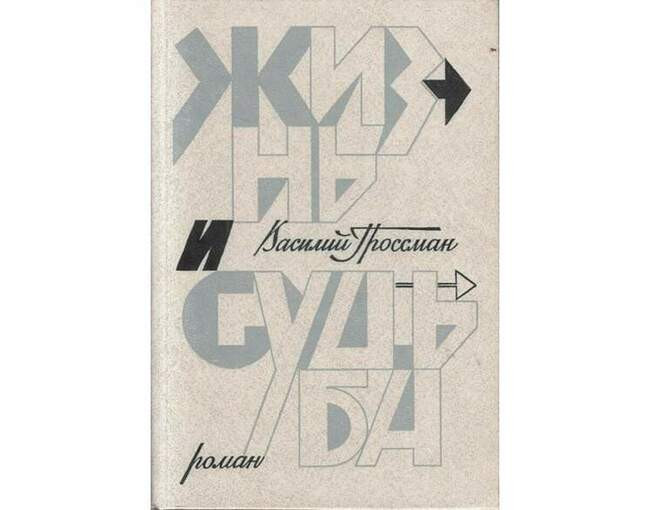 Обложка романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Москва, 1990 год
Обложка романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Москва, 1990 год
Представитель Главного управления безопасности Третьего рейха пытается убедить заключенного концлагеря — старого большевика Михаила Мостовского — в том, что Гитлер и Сталин на самом деле единомышленники. Возможно, именно эта сцена и привела к тому, что роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был арестован КГБ:
«— <…> На земле есть два великих революционера: Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства. Для меня братство с вами важней, чем война с вами из-за восточного пространства. Мы строим два дома, они должны стоять рядом. Мне хочется, учитель, чтобы вы пожили в спокойном одиночестве и думали, думали перед нашей новой беседой.
— К чему? Глупо! Бессмысленно! Нелепо! — сказал Мостовской. — И к чему это идиотское обращение „учитель“!
— О, оно не идиотское, вы и я должны понимать: будущее решается не на полях сражения. Вы лично знали Ленина. Он создал партию нового типа. Он первый понял, что только партия и вождь выражают импульс нации, и покончил Учредительное собрание. Но Максвелл в физике, разрушая механику Ньютона, думал, что утверждает ее, так Ленин, создавая великий национализм XX века, считал себя создателем Интернационала. Потом Сталин многому нас научил. Для социализма в одной стране надо ликвидировать крестьянскую свободу сеять и продавать, и Сталин не задрожал — ликвидировал миллионы крестьян. Наш Гитлер увидел — немецкому национальному, социалистическому движению мешает враг — иудейство. И он решил ликвидировать миллионы евреев. Но Гитлер не только ученик, он гений! Ваше очищение партии в тридцать седьмом году Сталин увидел в нашем очищении от Рема — Гитлер тоже не задрожал… Вы должны поверить мне. Я говорил, а вы молчали, но я знаю, я для вас хирургическое зеркало.
Мостовской произнес:
— Зеркало? Все, что вы сказали, — ложь от первого и до последнего слова. Ниже моего достоинства опровергать вашу грязную, зловонную, провокационную болтовню. Зеркало? Да вы что — окончательно обалдели? Сталинград вас приведет в чувство».

























