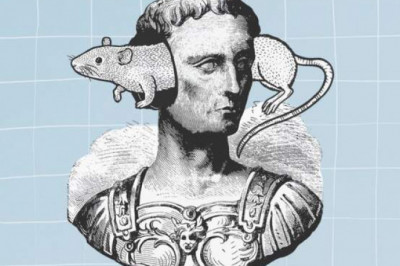Сходство, конечно, имеется: подобно Босху, Питер Брейгель изображает не локальный сюжет, но устройство мира в целом, картины населены сотнями персонажей, это рассказ о мироздании. Их живопись можно характеризовать как постванэйковскую: после изобретения братьями ван Эйк техники масляной живописи на досках северные мастера Босх и Брейгель довели приёмы бургундцев до изощрённости, подвели итоги Северного Ренессанса. В те времена были популярны такие книги – «суммы» знаний, своего рода энциклопедии. Существовали «Сумма о язычниках», «Сумма теологии» и т. д. Вот и Брейгель с Босхом создали своего рода «суммы», их подробные картины следует читать внимательно – найдёте рассказ обо всём.
Если вчитаетесь, то увидите, что Брейгель и Босх олицетворяют противоположности. Противоречие столь же разительно, как в паре Малевич – Шагал. Художники могут называться авангардистами, но один – казарменный фанатик, другой – сентиментальный фантазёр. В случае Брейгеля и Босха конфликт столь же глубок.
Объяснив природу этого противоречия, легче трактовать характер эпохи.
Брейгель был реалистом: рисовал лишь то, что видел, что пережил в зримых образах. Босх выдумывал метафоры бытия, был визионёром, в ХХ веке его назвали бы сюрреалистом. Чудищ, символизирующих силы Тьмы, изображали многие: сюжет «Искушение святого Антония» провоцировал изображения диковинных рептилий, в коих преобразился враг рода человеческого; художники всех времён от Грюневальда до Дали изображали фантастических химер.
Редкая особенность Питера Брейгеля состоит в том, что этот художник выдумывал крайне редко: химеры и монстры его воображению чужды. Ужасов на его картинах хватает: солдаты разрубают младенцев на части, наёмники пинают беременных женщин, рейтары поджигают дома, задние планы картин утыканы виселицами, но это было повседневной реальностью крестьянских мятежей и религиозных войн. Брейгель ужасы реально видел или так хорошо про них знал, что образы войны сделались навязчивыми. Кошмары картин Иеронима Босха, подобно кошмарам сновидений, не вполне достоверны. Беды же Брейгеля изложены с точностью в деталях: вот так солдат гонится на лошади за женщиной, вот так ландскнехт ударом ноги вышибает дверь хижины. Брейгелю (это звучит парадоксально, учитывая сложность композиций, многосоставной рассказ) вообще не удаётся что-то преувеличить: он, например, не умеет нарисовать великана или дракона; не видел такого, вот и не рисует. Всё, им рассказанное, исключительно просто. Прозвище Мужицкий, данное Питеру Брейгелю-старшему, отчасти выражает характер творчества (писал по преимуществу крестьян, а не господ), но до известной степени описывает склад сознания: художник может думать сложно, но выражает себя просто.
«Скуки нет в творении Брейгеля. У него нет мертвых, пустых мест... Одно лишь поражает - отсутствие солнца» - Александр Бенуа
Лапидарная манера, граничащая с неуклюжестью, может ввести в заблуждение. Брейгель предстаёт простецом, не любящим глубокомыслия, на деле же Брейгелю свойственна и метафоричность, и иносказание, но он принадлежит к тем редким мастерам, которые считают, что сложную мысль следует выражать простыми словами.
Выдумок в творчестве Брейгеля мало: существует ранняя вещь «Битва Архангела Михаила с Сатаной» (находится в Брюссельском музее), в которой художник отдал дань традиционному сюжету, изобразив битву небесного воинства с бесами. Есть аллегория «Триумф смерти» (находится в Прадо), в которой армия скелетов идёт на город, истребляя всё живое. Эта аллегория имеет конкретный адрес – эпидемию чумы. Прочие картины есть скрупулёзное изображение окружающей действительности; Брейгель, что называется, бытописатель. Первый уровень понимания картин всегда сугубо реалистический: с людьми случилось именно то, что нарисовано. Существуют и другие уровни прочтения образа, но важно то, что все толкования связаны с реальным явлением.
Картины отличаются друг от друга прежде всего тем, ради чего они написаны: Малевич рисовал ради квадратно-гнездовой организации общества, а Шагал – для того, чтобы передать любовь к жене Белле. Отличие Брейгеля от Босха, визионёра и хрониста, в том, кто их герой. Босх – художник готический, причём описал самую драматическую фазу стиля – пламенеющую готику, вспыхнувшую перед закатом рыцарской эпохи. Трёхчастный ритм стрельчатых композиций отсылает нас к нефам собора, а удлинённые пропорции фигур заставляют думать о соборных скульптурах. Это, в сущности, храмовая, дворцовая живопись. Подобно прочим художникам двора герцогства Бургундского, Босх описывал гордую судьбу рыцарства, правда, на его картинах куртуазная биография оформилась как трагическая. Герой Босха – бургундский кавалер, тот самый персонаж, которого можно найти на балах Дирка Боутса или на молитвах кисти Мемлинга, кого мы привыкли видеть в дворцовых покоях на фоне распахнутого окна с бесконечной перспективой кружевных мостов и башен. Босх же поместил куртуазного рыцаря в ад. Персонажей Мемлинга и Боутса, наделённых изысканной угловатой пластикой, Босх сохранил – посмотрите на удлинённые шеи его героев, на их острые локти, на измождённые бледные лица, прозрачную кожу. Мы привыкли наблюдать светскую жизнь бургундского двора, а персонажи Босха лишились пышных одежд и оказались нагими среди монстров, однако это те же самые герои бургундской готики.
 "Нидерландские пословицы". Питер Брейгель-старший. 1559 год
"Нидерландские пословицы". Питер Брейгель-старший. 1559 год
Беззащитные нагие девы трепещут в колючих объятиях чудищ; обнажённые жалкие юноши становятся жертвами рептилий; Босх изображает даже Иисуса Христа как растерянного кавалера куртуазного толка – в окружении мучителей звериного вида («Поругание Христа», Лондонская национальная галерея). Апостола Иоанна, автора Апокалипсиса и одного из Евангелий, Босх представляет в образе пажа, нежного юноши рыцарского сословия, отдыхающего на острове Патмос (Картинная галерея Берлина), – так прощались со средневековой идиллией, заканчивалась эпоха, которую Хейзинга характеризовал как осень Средневековья. Картины Босха можно трактовать как свидетельство недолговечности Ренессанса. Главный герой картин Босха – это кавалер Бургундского двора, брошенный на съедение времени.
А время в Европе настало скверное. Растворение герцогства Карла Смелого во Франции и образование Фландрии и Нидерландов было эпизодом большого передела Европы, началась эпоха национальных войн, распрей князей и курфюрстов с императорскими войсками ради создания национальных государств. Война шла отныне всегда, просто меняла название – в зависимости от сил и аппетитов тех, кто войны провоцировал и оплачивал, резне придавали то характер религиозной войны, то характер крестьянского восстания, то битвы реформаторов с папизмом. Спустя столетие войны перетекут в истребительную Тридцатилетнюю войну, но, по сути, война никогда не прекращалась, терзая тело Европы. То была война всех против всех, борьба за капиталы и рынки и всегда против народа, это прообраз истребительной Первой мировой, в которой принципов не существовало.
У Питера Брейгеля есть гравюра «Большие рыбы пожирают малых», на которой изображена всеобщая гибель, все рыбы вывалены на берег, дохнут все подряд, но при этом гиганты ещё тщатся проглотить тех, кто поменьше, – так именно и происходило, да и до сих пор происходит. Война национальных государств, начавшись тогда, уже не останавливалась, рыбы большие глотали малых, давились, но глотали, и тут же сами становились добычей рыб ещё больших. Убеждения меняли, флаги и гербы предавали, и наёмные отряды стремительно меняли хозяев. Хронисты рассказывают, что взятые в плен отряды наёмников расформировывали, дробили на части, и наёмники вливались в различные соединения вражеской армии: им было безразлично, за что воевать. Так образовался вечный двигатель войны – мотор работает и сейчас.
Реальность стала дикой: отряды рейтаров стирали деревни с лица земли, жизнь стала страшнее смерти. За головы крестьян их собственные господа платили наёмникам, то есть платили чужим за то, чтобы те умертвили соплеменников. Всё это трудно вместить рассудку, но война в принципе противна разуму. В те годы возникла пословица «Волки живут в городах, а люди – в лесу», настолько всё встало с ног на голову.
Перевёрнутому состоянию мира посвящена картина Брейгеля «Нидерландские пословицы», при жизни художника называвшаяся «Мир вверх тормашками»; Брейгель нарисовал сто девятнадцать иллюстраций к пословицам, описывающим дурачества, сто девятнадцать видов безумия, но имел в виду лишь один вид безумия – войну. Принято считать, что Брейгель ориентировался на книгу народных пословиц, составленную Эразмом Роттердамским; равно уместно предположение, что вывернутый наизнанку мир стал привычной реальностью тех дней.
Попы, благословившие резню; богачи, наживающиеся на голоде тех, кто добывает им богатство; папа, проклявший еретиков, которые составляют его паству; еретики, наживающиеся на бескомпромиссных убеждениях; поскольку ересь стала оружием, ею вооружились локальные князья, конкурировавшие с императором; всё пошло в ход, всё стало товаром войны. То был век великого перелома, век краха европейской цивилизации, рухнула вера в христианский мир. Крах экономики нашего века (религии современного мира), построившей благополучие на кредитах, то есть на обещаниях, которые в принципе оказались невыполнимыми, сопоставим с кризисом христианской веры, произошедшим на тех же основаниях – по причине тотальной кредитной политики. Индульгенции, то есть письменные отпущения грехов, проданные церковью за деньги, стали средством наживы и гигантским бизнесом: фактически, продажа индульгенций была не чем иным, как продажей фьючерсных обязательств. Производя деривативы, папская церковь, наводнила мир кредитными облигациями, которые стремительно обесценились, и крах фьючерсных активов церкви привёл к банкротству института религии в целом.
Масштаб разрушений легко представить по банкротствам кредитной системы банков и финансового капитализма, которые мы наблюдаем сегодня. То, что вчера было основой благосостояния цивилизации, вдруг оказалось мыльным пузырём – и сознание обывателя помутилось, ведь иной веры обыватель не имеет. Так именно и произошло в XVI веке в Европе: незыблемый институт церкви и престол Святого Петра пошатнулись, оказалось, что гигантский бизнес по распределению мест в раю – надувательство. Продажа фальшивых облигаций райского блаженства, произведение фальшивых мощей святых – всё это обесценило авторитет церкви. Интриги папского двора, непотизм, роскошь нунциев – то, о чём говорил ещё мятежный фра Савонарола, сделались очевидны всем.
Мир христианства содрогнулся; спасая веру и одновременно разрушая единство христианского мира, явилась евангельская национальная проповедь Лютера. Лютер немедленно был приближен к княжеским дворам, использован курфюрстом Саксонским и, надо сказать, увидел практический прок в сотрудничестве с властью. Национальная христианская идеология потеснила папизм, патриотическая религиозная идеология стала основанием борьбы локальных князей с императором. Но горе было крестьянам, поверившим в то, что революционные изменения совершаются ради самостоятельности простых людей – как поверил в это себе на погибель вожак восстания, проповедник Томас Мюнцер. В те годы, как и всегда, впрочем, выгоду ловили все и везде; постоянно проигрывал лишь один человек – крестьянин, постоянно в беде оказывалась лишь одна партия – народ. И тот, кто желал говорить от имени народа, не имел никаких шансов на победу, такой человек был предан всегда.
Вот именно такого человека и воспел Брейгель. Его герой не рыцарь, не монах и не дворянин, это человек труда. Герой Брейгеля – труженик, тот самый человек, которого рисуют Домье и Ван Гог, тот, кто добывает себе пищу трудом. Существует прямая линия, прочерченная в искусстве стран христианского круга от Питера Брейгеля к Винсенту Ван Гогу; нет более ясной связи. Это единая эстетика, единая система ценностей, единый образный строй. Посмотрите на «Башмаки» Ван Гога и подумайте о крестьянах, сражавшихся под знаменем башмака во времена Брейгеля, поглядите на вангоговских жнецов – и переведите взгляд на «Жатву» Брейгеля Мужицкого. Поглядите на лица крестьян Нюэнена, позировавших Винсенту Ван Гогу, поглядите на его «Едоков картофеля», а потом – на крестьян Брейгеля: это всё те же люди, которых жестоко обманули, у них нет ничего, кроме скудного хлеба насущного, но и этого довольно. Осталось главное: крепкая рука, чтобы работать и кормить жену и детей. Герой картин – человек с жилистыми руками и открытым лицом; он настолько измочален трудом, что не может хитрить; он не даст себя в обиду, но и не вырвет кусок из глотки соседа; он не солдат и он презирает утехи мародёров; его отечество не империя, а труд.
 "Старая крестьянка". Около 1563 года
"Старая крестьянка". Около 1563 года
У Брейгеля есть портрет крестьянки, крайне схожий с образами Ван Гога, даже кажется, что позировал один и тот же человек. Изображена старая и больная женщина, доведённая нищетой и работой до полубезумного состояния; крестьянка открыла беззубый рот, словно собирается крикнуть, но крика нет; однако её немота вопиет громче любого крика. Персонажи Босха – белоручки, поглядите на их тонкие прозрачные пальцы. Чудовищам потому легко расправиться с героями бургундской живописи, что те сопротивляться стихиям не умеют, они могут участвовать в турнирах и любовных баталиях, но беспомощны перед лицом катастроф. Однако попробуйте свалить крестьянина Брейгеля, вросшего в почву, как дуб, – кажется, что его разлаписто стоящие мужики пустили корни в скудную землю, их не сметёшь даже ураганом.
Брейгель часто писал стихии – бурю на море, бешеный ветер в лесу, снежные бури, на задних планах его картин рушатся скалы, рвутся паруса кораблей и бушует океан; но герои Брейгеля вросли в землю намертво. И чтобы написать таких устойчивых к катаклизмам людей, требовалась особая манера письма, надо было выковать оборону.
Босх писал трепетной кисточкой, вырисовывал трепещущие в утренней дымке дали; Босх – художник, которому присуще мелодраматическое восприятие мира. Но Брейгель рисовал упругой кряжистой широкой линией, а в знаменитом графическом автопортрете художник изобразил себя с толстой кистью в руке – вот вопиющая деталь! Этакая кисть пригодна скорее для маляра, но для изысканных акцидентных работ бургундской школы этот инструмент не годен. Альбрехт Дюрер или Ханс Мемлинг, изображая себя, создавали образ, напоминающий учёного, и тонкая кисть в их руках похожа на инструмент хирурга или астролога. А Брейгель изобразил себя как ремесленника – наподобие своих любимых землепашцев и рудокопов. Пальцы художника держат черенок кисти, как рукоятку мотыги, так ухватисто берут орудие тяжёлого труда. Линия, которой нарисованы грубые пальцы, сама груба, мы знаем эту резкую линию по рисункам Ван Гога.
Вероятно, не особенно размышляя на этот счёт (в письмах Тео нет ссылок на Питера Брейгеля), Винсент Ван Гог воспроизвёл в рисовании движение руки Брейгеля Мужицкого – с нажимом, въедливое, цепляющееся за подробности, но не мелочное. Линия никогда не дрожит, волнение, присущее рисованию Босха, изящество линии Гольбейна – всё это для Брейгеля в принципе невозможно. Для Брейгеля суровый контур, то есть линия, которой очерчен цвет, столь же важна, как и сам цвет. Цвет предметов – локальный, ярко и просто раскрашенный; Брейгель избегает оттенков и полутонов, и это в век раннего барокко, когда современники ищут прелести воздушной светотени. Контуром художник отсекает предмет от предмета с простотой, с которой мастер витража, применяет свинцовую спайку, соединяя красное стекло с жёлтым. Ровный эмалевый цвет и жёстко очерченный контур – это роднит строй картин Брейгеля со средневековыми витражами, с иконами и даже, заглядывая через века, с европейским примитивом.
Впоследствии появились художники, эстетствующие примитивисты (наподобие Таможенника Руссо, Ивана Генералича, мексиканской фресковой живописи), которые подражали лапидарности Брейгеля, ошибочно принимая его мужественный стиль за своего рода безыскусность. Питер Брейгель был лаконичен, но прямота рисования Брейгеля не происходит от неуклюжести; он старался говорить по существу, не доверяя интриге масляной живописи. Масляная живопись (смотрите на Босха и великих бургундцев, например) – это всегда немного колдовство: подмалёвок, пробелка, лессировка. Каскад приёмов прячет реальное усилие художника. В эпоху барокко приём вышел на первое место, потеснив замысел. Брейгель считал, что образ должен быть прост. И для тех, кто видит ложь времени, это понятное умозаключение.
Брейгель писал в то время, когда прямота высказывания становилась губительна для говорящего. Прямо говорил проповедник Томас Мюнцер – и поглядите, чем он кончил. Доктор Мартин Лютер тоже делал вид, что говорит прямо, куда уж прямее: «Здесь я стою и не могу иначе!» – однако доктор Лютер менял взгляды сообразно расстановке сил империи, строя отношения со двором. Лютер – это отнюдь не Савонарола; доктор прав готов был отречься и, разумеется, отрёкся бы, если бы оголтелый национализм не подскочил на рынке вооружений.
Богачу Якобу Фуггеру требовалось остановить финансовые экспансии папы, ему нужны были монополии на многие отрасли промышленности – и национализм оказался кстати. Гнев народа – востребованная рынком меновая стоимость. Капиталист Якоб Фуггер, богатейший человек Европы, получивший в ходе религиозной и крестьянской войн монополии рудной промышленности и мануфактурного производства (Дюрер оставил нам портрет Фуггера: вот герой тех лет, человек, отрицающий, подобно Лютеру, свободу воли и даже знающий, на каких именно основаниях), работал с ресурсом народного гнева столь же рачительно – как с рудой и квасцами. Вместе с Фуггером реальность создавали курфюрст Фридрих Саксонский и имперские Габсбурги, папа римский и мелкие князья. Все они манипулировали народной верой и крестьянским гневом, использовали любые аргументы. Поразительно, что в торговле смертью принимали участие и гуманисты фон Гуттен, Меленхтон, и, разумеется, религиозные фанатики, первый из которых Мартин Лютер. Все они говорили, имитируя ясность, но говорили сугубо витиевато.
Кажется, один только Эразм Роттердамский нашёл в то время спокойные и твёрдые слова, обращённые против войны и против национальной спеси: «Все войны развязываются для пользы власть имущих и ведутся в ущерб народу. Властители и генералы извлекают из войны выгоду, а огромная масса народа должна нести бремя расходов и несчастий. Ни один мир никогда не был столь несправедлив, чтобы его нельзя было предпочесть самой справедливой из войн. Национализм – проклятие человечества. Задачей политиков должно стать создание всемирного государства»
Эти слова в корне противоречили проповедям патриота Лютера, противоречили переменчивой морали протестантизма, да и вообще военной истерике тех лет. Разнообразные проповедники беспрестанно звали народ к войне, иногда войну называли священной; реформатор, отец народной (то есть незапятнанной папским ростовщичеством) религии Мартин Лютер призывал убивать и убивать папистов и мусульман, но, когда дело дошло до крестьянского бунта, Лютер столь же яростно призывал резать крестьян в угоду курфюрсту. За кем людям было идти и кому верить?
Картина Брейгеля «Слепые ведут слепых» – это и хроника бродяжничества и точная метафора того времени. Изображение слепца в Средние века – традиционная метафора ложного учения; например, Синагогу (то есть иудаизм) в традиции христианского собора изображают в качестве незрячей девы, на глазах Синагоги повязка. Но здесь нарисовано шесть разнообразных слепцов, это парад фальшивых учений и ложных пророчеств. Народу втолковывали окончательную истину на каждом углу. Имелась идеология Священной Римской империи и планы её императора Габсбурга; имелась доктрина папы, имелась программа доктора Лютера; имелось также конкретное приложение лютеранского учения, а именно то, как Лютера использовал в своих интересах патриот курфюрст Фридрих Саксонский; имелась программа просветителя Меланхтона и германского национального самосознания. И всё это превосходно уживалось с поборами, рабством и смертью на бессмысленной войне.
Народу только что дали истинную веру взамен папизма – веру свою, национальную, коей людям следует гордиться! И ради этой истинной веры людей тут же погнали на убой и запретили восставать против крепостного права. То был распространённый во все века трюк: когда один жадный желает сместить другого жадного, он поднимает бунт среди рабов, но горе рабу, если он вздумает считать, что в ходе этого бунта станет свободным. Квазисоциализм, встроенный внутрь обширной имперской программы, был представлен в ходе религиозных войн северной Европы весьма наглядно, и мотив слепых, ведущих друг друга в канаву, Брейгель воспроизвёл трижды: помимо собственно картины существует череда слепцов в «Нидерландских пословицах», а также в «Детских играх». Брейгель всегда настаивает на найденном образе, случайных образов у него не было. Возможно, Питеру Брейгелю передали, что именно притчу о слепых выделил в последней проповеди великий вожак крестьянского восстания, проповедник Томас Мюнцер – герой крестьян, противник Лютера, борец за равенство.
Мюнцер сказал незадолго до гибели (его пытали и четвертовали по приказу курфюрста и по велению Лютера): «Нет другого народа под солнцем, который так бы попирал закон, как нынешние христиане. Многие народы земного круга, превосходят нас: они помогают своим братьям, а мы у братьев отнимаем. Мы слепцы и не верим никому, кто говорит о нашей слепоте. Слепой ведёт слепого, и оба они падают в пропасть невежества». Это было сказано не только против папы и князей, прежде всего это было сказано против так называемой реформации пророка Лютера, который обнадёжил крестьян осовремененным Евангелием, но вовремя примкнул к партии рыцарей. Лютер говорил так: «Шастают вокруг нас бесполезные болтуны, от их пустословия совсем житья не стало. Они полагают, что ими движут благие намерения и их дело правое. Это опаснейшие люди. Ибо никогда нельзя надеяться, что у кого-то могут быть благие намерения и добрая воля». Лютер требовал отказаться от свободной воли, требовал от смердов смирения: мужик рождён в повиновении господину и негоже мечтать об отмене крепостного права. Слепцы, которых опять и опять рисовал Брейгель, – прямая цитата проповеди Мюнцера; перед нами воплощённая судьба крестьянина, которому всегда врут.
В речах Лютера, вразумляющего крестьянство, есть пассаж, которому напрямую отвечает Питер Брейгель. Лютер говорил так: «Речь пойдёт о послушании начальникам. Из послушания родителям следует и выводится всё остальное. А потому все, кого мы называем господами, стоят на месте родителей. И чем дитя обязано матери и отцу, тем всякий подданный обязан своему повелителю. А посему рабочие должны не только слушать своих господ, но почитать их как отца и мать». Этот текст примечателен не только демагогическим приёмом («А потому все, кого мы называем господами, стоят на месте родителей». Почему потому? Никакой причины для этого следствия в рассуждении нет), но и выводом: «Крестьяне должны исполнять то, что от них требуется, не по принуждению, но с радостью и удовольствием, ибо такова Божья заповедь». То есть подчинение начальству является исполнением заповеди «Чти отца своего и мать свою». Это удивительное рассуждение, но укоренённое в морали тех лет, навязанной крепостному.
Текст лютеровской проповеди интересно сопоставить с ответом Питера Брейгеля – художник написал картину «Детские игры». В картине Брейгель показал, что детская жизнь есть прообраз взрослой жизни, в отношениях детей уже заложено всё, что потом проявляется во взрослом существовании: и угнетение, и коварство, и глупость, и раболепие, и отчаяние. Иными словами, у взрослой жизни нет ни единого преимущества в социальных организациях – всё это настолько укоренено в природе человека, что, увы, воспроизводится на любом этапе.
Брейгель не умел рисовать детей, точнее, у него нет на картинах ребёнка, который не был бы уже взрослым и по чертам лица, и по знанию жизни. Но продолжим это рассуждение, и мы должны будем сказать: если народ – ребёнок, а господа – родители, то вам, родители, нечему научить народ. Увы, всё общество однородно – просто одни, расчётливые и коварные, правят другими.
«А ещё было угодно Господу, чтобы никаких праздников в будние дни не было, а все бы святые праздники приходились на воскресенье» – так заботился доктор Лютер о своей пастве и о кошельке курфюрста одновременно. Вы заметили, сколько попоек нарисовал Брейгель? Начиная от программной вещи «Битва Карнавала с Постом» (а что это, как не бой с лютеранским ханжеством?) и вплоть до крестьянской свадьбы, которая наверняка не пришлась на воскресенье. «Мы всегда должны помнить, что насилие властей предержащих, будь оно правое или неправое, не может повредить душе, но лишь телу и имуществу. Вот почему мирская власть, даже если она чинит беззаконие, неопасна, не то что духовная». Посмотрите на картину «Избиение младенцев». Это происходит в современной Питеру Брейгелю деревне, это так вот расправлялись с крестьянами. Это было так, и он это нарисовал.
Вообще говоря, в сентенции Лютера по поводу соучастия крестьянина в собственном угнетении (народ – вразумляемое дитя, труд облагораживает, начальство угнетает, но это не гнёт) есть перекличка с речью Хайдеггера, прочитанной им в присутствии Геринга на заводе Эссена. Философ, член НСДАП, уверял рабочих, что они соучастники великой мистерии труда, и безразлично, кто выполняет какую роль в этой великой мистерии – одним досталась роль слуг, другим господ, но общая цель прекрасна. Лютер высказал эту же мысль раньше, а Брейгель, отвечая Лютеру, ответил и Хайдеггеру, и хайдеггерианской эстетике, соответственно. Для Брейгеля не существует общей «великой эстетики труда», он любит тружеников, но ненавидит тяжёлый бессмысленный труд. Это очень важно – понять различие труда и человека, выполняющего рабочую повинность.
Любопытно, что в программно-утопических картинах Брейгеля «Времена года» среди жнецов, косцов и пахарей не присутствуют начальники – им никто не даёт указаний. Брейгель писал свободный труд.
 "Свадебный танец". 1566 год
"Свадебный танец". 1566 год
Крестьян и рабочих, покорёженных обществом, Брейгель рисовал всегда. Из брейгелевской толпы калек позаимствовал тему костылей Сальвадор Дали; костыль, подпорка бытия, для Брейгеля стал метафорой общественной дури задолго до испанского сюрреалиста: вот на таких костылях скачут калеки с луврской картины Брейгеля. Задолго до карликов-шутов Веласкеса, Брейгель сделал героями убогих и покалеченных – смотрите на них пристально: мы все такие. Пророк доктор Лютер, закончивший век придворным богачом, владельцем гостиниц и постоялых дворов, Лютер, предавший крестьян на гибель от княжеского меча, вот он явил показательный пример здоровья, а прочие покалечены временем. Увечий и слепоты на этот мир хватало, мало было зрячих.
Питер Брейгель видел дальние планы, обнимал глазом Европу от Альп до холодных равнин Фландрии, писал планету целиком, ему всякий край был интересен. Известно, что он путешествовал по Италии, учился. Впрочем, путешествовали тогда многие – с юга на север и наоборот; Европа дышала (или задыхалась) единым организмом; укрыться от бед и проблем было негде. Если Брейгель учился в Италии, это лишь означает, что он учился у тех, кого выучил его соплеменник Рогир ван дер Вейден. Сферическая перспектива Брейгеля (эту перспективу воспроизвёл Петров-Водкин, другие примеры неизвестны) позволяет видеть всю протяжённость мира и истории сразу и во все стороны; Брейгель писал, как развивалась история всего человечества, – требовалась большая сцена.
То, что пишется именно история человечества, он обозначил просто: нарисовал строительство Вавилонской башни. Отчего-то принято считать Вавилонскую башню метафорой неудачи: дескать, амбиции строительства безмерны, да Господь вразумил гордецов. И действительно, написано много разрушенных башен, но Брейгель писал успешное строительство Вавилонской башни, показал процесс стройки. Мы отказываемся замечать тот простой факт, что Брейгель свою башню не рушит: в его понимании движения истории башня (читай: проект единения людей, то самое, ради чего думали о башне Татлин и Маяковский) есть необходимая константа. Брейгель пишет свою башню именно в то время, когда идёт процесс распада единой Европы, когда общая вера распадается на локальные доктрины. Стоит понять, что Брейгель утверждает как раз обратное, так дальнейшее чтение его картин даётся легче.
Традиционно созданное Брейгелем делят на три этапа – по стадиям взросления мастера; изменения сюжетов (и, возможно, стиля: его поздние вещи написаны более контрастно) связывают с путешествиями в Италию, с влиянием Босха, и т. п. Первый этап – знаменитые аллегории «Падение Икара» и «Битва Архангела с Сатаной», второй этап – библейские притчи и «Времена года», третий этап – крестьянские свадьбы. Я бы предложил классификацию несколько усложнить, принципиально разделив картины, написанные на евангельские сюжеты, и так называемые «Времена года». Деление связано с социально-утопическим аспектом в творчестве Брейгеля.
Евангельские картины соответствуют общей ренессансной традиции – перенос сюжета из Палестины в современный художнику мир. «Поклонение волхвов», «Несение креста», «Перепись в Вифлееме», «Избиение младенцев» – все эти события происходят в современной Брейгелю Фландрии, что для эстетики Возрождения довольно распространённый приём. Не банально то, что Христос и Дева Мария показаны с крестьянской точки зрения; явлена биография мужика, жившего среди мужиков. В лондонском «Поклонении волхвов» есть два сюжетных акцента, абсолютно непривычных для иконографии Рождества. Дева Мария и Иосиф изображены совершенными простолюдинами, а у входа в хлев, помимо волхвов, собралась вооружённая бригада ландскнехтов – так именно солдаты врывались в крестьянские дома.
«Перепись в Вифлееме» и «Избиение младенцев» развивают метафору: вместо Вифлеема Брейгель рисует снежную деревню, её уничтожает отряд наёмников. Испанские ли то солдаты, вольные отряды или княжеское ополчение – неважно; важно, что война не щадит никого. В картине «Несение креста» обнаружить Спасителя непросто: Христос буквально затерян среди толпы. И это не потому, что он, подобно босховскому Христу или Христу Грюневальда, задавлен обилием мучителей, но просто потому, что Бог точно такой же, как и все прочие. Разительного отличия облика нет – он мужик среди мужиков. Это довольно грубо сказано, но так уж художник захотел сказать.
Одного взгляда на искусство Ренессанса довольно, чтобы заметить разительное несоответствие между высоким пафосом изобразительного искусства и литературой, которая не избегала сюжетов, снижающих пафос до бытовой истории. Такого не наблюдается в иных эпохах: живопись барокко обладает тем же этическим пафосом, что и литература барокко, то же самое можно сказать об эпохе Просвещения. Так неужели зритель картин Боттичелли не мог оценить грубоватого юмора, доступного читателю новелл Боккаччо? Отчего изобразительное искусство Возрождения не знает изображения простолюдина? Вспомните, драмы Шекспира построены на том, что высокий слог вельмож оркестрован грубыми репликами шутов, могильщиков и слуг. Почему же Микеланджело, написавший Бога, пророков и героев не нашёл в мистерии человечества места, куда поместить рыночных торговок и рыбаков? Принято считать, что простонародью были внятны канцоны и терцины Данте; великий флорентиец писал отнюдь не на латыни, он сделал итальянский повседневный язык языком великой литературы.
Что касается Боккаччо и Саккетти, Браччолини, Страпаролы и Ариосто, то рассказанные ими истории описывают мужиков наряду с господами, причём не обязательно, что главным героем становится именно господин. То же касается и «Кентерберийских рассказов» Чосера, и «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, и «Гептамерона» Маргариты Наваррской – сложных повествований, где высокий и низкий стиль сознательно перемешаны.
Однако противопоставления двух стилей изобразительное искусство Возрождения просто не знает. Это, если угодно, оркестр одних струнных инструментов, но ударные и духовые принципиально отсутствуют. Не только у величественного Микеланджело и надменного Леонардо, но даже у бурного Тициана, у виртуозного Карпаччо мы не найдём изображения тех, кого принято называть расплывчатым словом «народ». Даже дальние планы картин, где почти неразличимые фигуры могли бы оказаться мужиками на пашне, даже там простонародья нет. Там паломники (как у Чимо да Канельяно), рыцари (у Джорджоне), но низменного быта нет. Спустя два столетия жанр войдёт в изобразительное искусство; во времена Возрождения быт не ставили вровень со священным сюжетом. Есть характерный эпизод: допрос Паоло Веронезе, учинённый в связи с картиной «Пир в доме Левия». Художника обвиняли в том, что он поместил в картину с божественным сюжетом случайных людей. Ответы художника обескураживают следователя. «Кто этот человек на первом плане, у которого идёт носом кровь?» – «Это слуга, у которого случайно пошла носом кровь».
По всей вероятности, Веронезе не хитрил, он действительно растерялся. У него и в мыслях не было принизить значение священной сцены, то была первая робкая попытка включить слугу в пафосное произведение. Во время допроса Веронезе сослался на то, что художник должен быть наделён теми же правами, какими располагают писатели, смешивая высокий и низкий стиль; в его время (он современник Брейгеля) это требование выглядело безумным.
Вообще говоря, совмещение высокого и низкого слога есть характерная черта европейского искусства. Поскольку сам Христос явился в образе нищего странника, то с тех пор бродяга, юродивый, арлекин стали контрапунктом для гуманистического искусства (см. бродягу Чарли в фильмах Чаплина и арлекинов Пикассо). Однако Высокое Возрождение предъявляет героям суровые требования – так просто на картину не попасть. Мы добираем информацию из литературы: узнаём о попойках крестьян, об их нужде и грошовых расчётах, но всё, что мы знаем, не из картин. Нашему воображению приходится совмещать знание, почерпнутое из изобразительного искусства с прочитанным, чтобы получить объёмную картину времени. Во французском Ренессансе мы знаем солёные шутки героев Рабле, школяра (Панург) и монаха-расстриги (брат Жан), но не найдём адекватной этому картины.
Когда Пантагрюэль с шутками и прибаутками собирает коллекцию живописи на острове Мидамоти, он собирает то искусство, что было известно Рабле: описывается маньеристическая живопись круга Фонтенбло, на которую брат Жан с Панургом и не взглянули бы. Ни великий художник Жак Фуке, ни миниатюры Жака Клуэ не оставили нам практически ни одного изображения мужика (исключением следует считать портрет шута Ганеллы кисти Фуке, который хранится в венском музее). Точно так же и Северное готическое Возрождение знает рыцарскую галантность, религиозный экстаз, но народной эстетики бургундское искусство не знает. Появляется сельский мотив, созданный для заднего плана часослова герцога Беррийского: аккуратные пашни и благостные пейзане, их жизнь вплетена в декоративный орнамент. Насколько это, декоративное и приторное, не соответствует живому реализму Саккетти и Страпаролы или латинским фаблио, что были уже за столетия до Саккетти. В изобразительном искусстве Ренессанса мужика не было, даже закулисные роли его допускали только после встречи с куафюром.
В истории искусства было лишь два художника, поставивших мужика вровень с господином, лишь два художника заявили, что Ренессанс возможен для всех: это Брейгель и Ван Гог. Они не отменили культуру господ, как это сделала социалистическая революция, они не заменили дворянина пролетарием, нет, они просто сказали, что мужик в такой же степени субъект ренессансной культуры, как и рыцарь. В ренессансной литературе это сделали Рабле и Шекспир, а в изобразительном искусстве – Питер Брейгель, которого так и назвали: Мужицкий.
 "Страна лентяев". Питер Брейгель-старший. 1566 год
"Страна лентяев". Питер Брейгель-старший. 1566 год
Бургундское искусство – это рыцарское искусство; флорентийское искусство – искусство банкирских палаццо; венецианское искусство – искусство нобилей. Объяснить это легко: лишь человек благородного происхождения и обильного достатка может позволить себе предаться «высокому досугу», пользуясь определением Аристотеля. Едва искусство делается демократичным, как кругозор его сужается: голландский протестантский натюрморт не рассказывает (не хочет и не может) обо всём мире. Ренессанс – удел благородных и свободных; крестьянин не благороден и не свободен, следовательно, Ренессанс не для него. А вот Брейгель это обстоятельство опроверг: он остаётся художником Ренессанса и одновременно является крестьянским живописцем; его герои – сплошь мужики. Это впервые так. До него так никогда не было в искусстве, и после него так никогда не было, лишь Ван Гог сумел повторить – не в полном объёме, но сумел – путь Питера Брейгеля.
Питер Брейгель однажды написал программную картину – «Страна лентяев», в которой перемешал сословия, вещь небывалая для Ренессанса. Вокруг стола с закуской спят хмельные собутыльники: рыцарь с копьём, школяр с книгой и мужик с цепом. Это едва ли не первый пример в искусстве Ренессанса – портрет всех классов общества, причём объединены представители классов общим евангельским сюжетом. Совсем несложно понять, что художник пишет аллюзию на сон трёх апостолов в Гефсиманском саду. Иными словами, Брейгель говорит: вера дана вам всем сразу, вы – одно целое, проснитесь!
Евангельские притчи Брейгель Мужицкий рассказал заново, заставил истории про Спасителя жить без папской фальши; впрочем, и лютеранской фальши в этих рассказах тоже нет. Питер Брейгель Мужицкий, конечно же, художник религиозный, однако религиозность его своеобразная: он очевидно не папист, однако и не протестант также. Скаредная мораль лютеранства ему невыносима, а если кто-то усомнится в том, что протестантское ханжество художник презирал, пусть посмотрит на «Крестьянский танец», на бешеную пляску кряжистых мужиков с вздыбленными фаллосами – это практически языческий праздник, торжество плоти и похоти вопреки закону и церковной морали.
Штаны лопаются под напором плоти, парни мнут задницы крепких девок, а девки прижимаются к мужским причиндалам и млеют от восторга. Разве доктору Мартину Лютеру и его пресной фрау Катарине понравилась бы этакая пляска? Посмотрите на «Крестьянскую свадьбу» (Питер Брейгель завершил свой путь тремя крестьянскими картинами и оставил себя в нашей памяти гостем крестьянской свадьбы: написал второй автопортрет – сидит в углу бородатый мужик), что на такой свадьбе могло бы порадовать народного пророка, который этот самый народ ненавидел? Последняя из известных нам вещей Брейгеля – «Танец крестьян под виселицей», и это прямой ответ Брейгеля лютеранству, утвердившему виселицы для крестьян.
И проповедь в лесу Мартину Лютеру тоже не понравилась бы: виттенбергский пророк довольно быстро ввёл регламенты на богослужения, не уступающие папизму в формальностях. «Проповедь Иоанна Крестителя», которую написал Брейгель, – это проповедь отнюдь не Лютера, но Томаса Мюнцера, и прочитана эта проповедь под открытым небом тем, кого Лютер презирал, – бедноте. Думаю, что данная картина является программной для Питера Брейгеля и предъявляет нам его мировоззрение с предельной ясностью.
Питер Брейгель родился в год, когда Томаса Мюнцера казнили, в 1525-м. Нельзя отрицать тот простой факт, что тема крестьянства главная в деятельности обоих, оба посвятили жизнь обездоленным, судьбы убогих, обиженных богатыми жгут сердце обоим. Легко допустить, что у Брейгеля были основания считать себя восприемником идей Мюнцера. Это была столь же ясная эстетическая программа, как и спустя четыре века у Винсента Ван Гога (здесь уместно будет привести высказывание Ван Гога, сообщившего о смысле своих занятий бесхитростно: «Цель моих стремлений: писать крестьян в их повседневном окружении»).
Учёный проповедник Томас Мюнцер, буквально решивший разделить участь крестьянина, притягивал художников: например, к восстанию крестьян примкнул германский скульптор, резчик по дереву Тильман Рименшнайдер. Когда наконец схватили Мюнцера, то схватили и Рименшнайдера; великого мастера, чьи скульптуры украшают соборы, пытали и сломали обе руки, в дальнейшем скульптор не мог работать. Художники, впрочем, знали, на что идут. Знал и Рименшнайдер, и Ван Гог, и Брейгель: участь крестьянина ими самими описана предельно ясно. После подавления восстания Альбрехт Дюрер предложил проект памятника крестьянам.
Вот что он посоветовал соорудить: «Посреди кадки для масла поставь молочный кувшин красивой формы. В кувшин вставь четыре пары деревянных вил, которыми сгребают навоз; обвяжи их вокруг снопом так, чтобы вилы торчали. И прикрепи к этому крестьянские орудия – мотыги, лопаты, навозные вилы, цепы. Затем поставь на вилы на самом верху куриную клетку, опрокинь на неё горшок из-под сала и посади на него опечаленного крестьянина, пронзённого мечом, как я это здесь и нарисовал». Сохранилась и гравюра, сделанная Дюрером для пояснения к строительству памятника: крестьянин изображён с мечом в спине, удар нанесён предательски. Скульптурная композиция смотрится сегодня сюрреалистическим ассамбляжем – в наши дни этакое проделывают в гламурных галереях: навозные вилы, а на них поставлена куриная клетка, кажется, даже имеется такая современная инсталляция. В случае Дюрера, однако, сюрреализма нет, но буквально произнесённая правда часто выглядит преувеличением.
Курица в клетке, навозные вилы и нож в спину – вот портрет крестьянства
Брейгелевское сравнение Иоанна Крестителя с Томасом Мюнцером столь же естественно, как и памятник, придуманный Дюрером, – ни малейшего преувеличения в сопоставлении этих фигур нет. Обоих проповедников умертвили усекновением головы по приказу жестокого царя; и, если роль Иродиады в случае Мюнцера сыграл Лютер, это немногое меняет. Как и Мюнцер, Иоанн Креститель жил лесной жизнью. Мюнцер был окружён беднотой (в то время возникло учение Андреаса Карлштадта, согласно которому следовало разделить тяготы буквально), вот поэтому Креститель и изображён в лесу в окружении крестьян. Это лишь буквальное изложение современных Брейгелю событий, а библейский Иоанн Креститель никаких проповедей в лесу сроду не читал и никаких указаний на этот факт нигде не имеется. Интересно бы знать, что говорит беднякам в лесу Иоанн Креститель. Вероятно, это была проповедь, произнесённая так, чтобы самые простые люди её уразумели. Питер Брейгель и сам старался говорить именно так вот просто.
Свою собственную проповедь он оформил в доходчивый для простолюдинов сюжет – в популярное изображение времён года. Для крестьянина это понятное измерение истории: смена времён года в трактовке крестьянина – это смена цивилизационных проектов. Так Брейгель и написал.
Нарисованы осень, зима, весна и лето, причём каждый сюжет следует читать как буквально, так и метафорически. «Сумрачный день» – одна из самых прекрасных брейгелевских картин, вещь свинцово-сливового колорита, с тяжёлым грозовым небом и морской бурей на заднем плане. На деревню надвигается гроза, и перед лицом общей беды, глупые крестьянские мальчишки заняты тем, что разоряют птичьи гнёзда. К этому символу – разрушение жилья ещё более слабого, чем ты сам – Брейгель прибегает постоянно (есть, по крайней мере, четыре изображения, вставленные в различные картины); солдаты рушат дом бедняка, а бедняк – птичье гнездо; большие рыбы поедают мелких; дети угнетают детей. Это одна и та же мысль, высказанная разными словами, – чтобы хоть однажды до зрителя дошло. На картине «Возвращение стад» мы видим солдат, угоняющих скот, а скудная добыча «Охотников на снегу» не вселяет надежды на изобильные трапезы. Развели костёр – готовятся встречать охотников, но готовить нечего, голод.
Когда мы доходим до картины «Жатва», мы уже готовы понять её неизбежность.
Жатва, как её понимал Томас Мюнцер, – это время расплаты, это пора сведения счетов с миром. В проповедях Мюнцера образ «жатвы» присутствует постоянно: Томас Мюнцер призывал крестьян «собрать жатву», слово сделалось нарицательным. Так он и говорил, так и писал, так проповедник обращался к крестьянам, называя восставших жнецами: «Пришла ваша пора, братья, час жатвы настал!» Зерно созрело, терпеть более невозможно, поле надобно сегодня сжать. Так именно жатву понимал и Брейгель, и его жнецы, трудящиеся серпами в поле, это метафора восстания. Винсент Ван Гог, мысливший в унисон с Брейгелем и Мюнцером (и, кстати, сам начинавший как проповедник), объяснял собственный холст со жнецом, написанный в Арле спустя триста лет после брейгелевской жатвы, как изображение поля смерти, а саму фигуру Жнеца – как воплощённую Смерть. В письмах к Тео есть строчка: «Жнецу предстоит ещё сжать слишком многое».
Собственно говоря, цикл «Времена года» описывает представления Брейгеля о возможной социальной трансформации: от зимы феодализма – к восстанию и сбору урожая, затем к крестьянской республике. Крестьянство, по Брейгелю, пройдёт путь от жатвы к сбору плодов и отпразднует свадьбу – самостоятельно, не ведомое никем. Брейгель, в отличие от распространённого тогда взгляда на крестьянское сословие, не назначает труженикам учителей: на холстах, подробно описывающих деревенское хозяйство, мы не видим бар – тех, кому достаётся доход с полей, кому принадлежит земля.
Брейгель считает, что человеческая природа, закалённая в борьбе со стихиями, нравственна сама по себе, изначально; мораль, по Брейгелю, присуща человеческому существу, нарушение заповеди равносильно природному катаклизму. Брейгель пишет быт крестьянской республики, проект Томаса Мюнцера, художник изображает крестьянский социализм. Не стоит стесняться этого слова, испоганенного риторикой последних веков; социалистом был Сирано де Бержерак, социалистом был Эразм Роттердамский, несомненным социалистом был Винсент Ван Гог, да и Брейгель тоже был социалистом. Его холсты есть последовательное доказательство возможного единения трудовых крестьян. Однажды, считал он, будет установлен всеобщий союз равных; возникнет коммуна тружеников; именно этому проекту бытия и посвящены брейгелевские холсты «Времена года».
Составить проект Возрождения для крестьянства – задача практически нереальная. Над проектом гуманизации высшего сословия трудились лучшие умы человечества, и, как мы видим из истории сегодняшнего дня, усилия пропали даром. А низшими классами занимались немногие. Брейгель наряду с Марксом, Ван Гогом и Кампанеллой, совершил усилие, чтобы создать утопию равенства; будет мир без войны и наживы; возникнет общество труда, а не кредитов. Осуществима ли данная утопия – это Брейгель оставил решать нам.