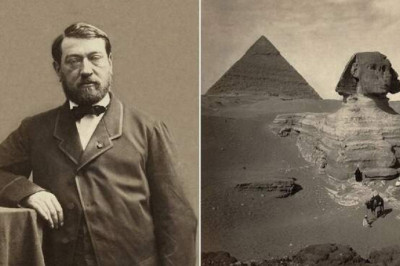Великая война 1914–1918 гг. не была исключением из правил и стала временем, когда слухи, сплетни и домыслы оказались важной составляющей тыловой жизни.
По-видимому, подобные слухи, сплетни, болтовню и т.п. следует рассматривать как «коллективное воображаемое», являющееся, по словам российского исследователя З.А. Чеканцевой, «важным аспектом социальной жизни, который не только проявляет реальность, но, имея скрытую, не всегда осознаваемую власть над людьми, непосредственно участвует в формировании этой реальности». Иными словами, коллективное воображаемое — это система идей-образов, через которую та или иная общность «обозначает свою идентичность, вырабатывает представление о себе; фиксирует и отличает распределение ролей и социальных позиций, выражает и навязывает некие общие представления или верования». Необходимо также различать слухи и сплетни. Если первое всеобще и имеет своим объектом какой-то коллектив или весь социум, то второе индивидуально и направлено на конкретное лицо из числа знакомых рассказчику.
В Первую мировую войну эти явления были чрезвычайно распространены и были характерны для всех стран, участвовавших в войне. В этом случае особый интерес представляют слухи, содержание которых было схожим — это указывает если не на общий источник слухов, то, по крайней мере, на сходные обстоятельства их возникновения. Можно выделить несколько основных сюжетов для слухов, которые были распространены в России в годы Первой мировой войны и революционных событий 1917 года.
Помощь далёких союзников
В 1915 году по России поползли слухи о японских солдатах, якобы направленных на Восточный фронт сражаться вместе с русскими войсками против немцев. Известный русский философ Лев Тихомиров 27 июня 1915 года отметил в своём дневнике: «В народе упорные слухи о приходе японских войск, которые будто бы везут прямо через Вологду в Петроград». Интересно, что слух этот был общим как для населения в тылу, так и для армии. Генерал Н.Н. Головин объяснил его упадком армейского духа в связи с «великим отступлением» кампании 1915 года. Понятно, что армия, измученная отступлением и ужасающаяся своему положению, «ожидает какого-то события, которое должно повернуть войну в нашу пользу. Один слух, самый якобы достоверный, сменяется другим. По последней версии к нам перевозится японская армия, и тогда война решится одним ударом. Многие уже видели японцев в тылу. Массовая галлюцинация».
 Россия всё же дождалась японских солдат — только, увы, это были не союзники на западе страны, а интервенты на её востоке. В 1915 году же Японию вполне устраивали собственные территориальные приобретения вроде отнятого у немцев Циндао. На фото японские солдаты маршируют по Владивостоку
Россия всё же дождалась японских солдат — только, увы, это были не союзники на западе страны, а интервенты на её востоке. В 1915 году же Японию вполне устраивали собственные территориальные приобретения вроде отнятого у немцев Циндао. На фото японские солдаты маршируют по Владивостоку
При этом стоит отметить, что подобный слух был в ходу ещё в 1914 году — причём, на другой стороне фронта. Британский наблюдатель на русско-германском фронте генерал Нокс писал, что германские войска в октябре 1914 года после больших потерь спешно покинули один польский город, потому что были уверены, что против них сражаются или, по крайней мере, руководят русским огнём именно японцы! По-видимому, активные переговоры русского и японского правительств о формах союзнического взаимодействия, а также приезд каких-то отдельных японских инструкторов (Россия закупала большие партии вооружения у Японии) дали повод для подобных толков.
Шпионы там, шпионы здесь…
Второй повод для многочисленных слухов породила шпиономания. Уровень шпионофобии был чрезвычайно высок, и это понятно, именно в первые месяцы войны. Вражескими шпионами были озабочены как верхи, — так, к примеру, полиция и армейское начальство прилагали большие усилия по поиску вражеских аэропланов и мест их приземления, — так и низы. Не очень ясно, правда, что спровоцировало волну слухов. Например, в отчёте одного из уездных исправников Саратовской губернии говорилось, что невежественное крестьянское население решило, что раз меры принимаются, то и аэропланов следует ждать, и в итоге две впечатлительные женщины действительно увидели ночью некое непонятное явление. «Невежеством» толпы объяснились многие слухи и в Англии.
Чем больше местное население соприкасалось с немцами, — например, в крупных городах или местах компактного проживания немцев, в Прибалтике или на Юге России, в поволжских губерниях, — тем больше было слухов. Современный историк Эрик Лор отмечает, что «армейские газеты, журналы и издаваемые Военным министерством брошюры содержали массу страшных выдуманных историй о предателях среди немцев, евреев, мусульман и т.п.» Так, например, целое дело было раздуто после публикации в декабре 1914 года «Новым временем» истории о будто бы укрываемом немецкими колонистами в районе городка Аккерман вражеском десанте.
 Погромщики фотографируются у разграбленной московской усадьбы немецкого промышленника Гуго Вогау, на момент начала Первой мировой войны — одного из богатейших людей России. Май 1915 года
Погромщики фотографируются у разграбленной московской усадьбы немецкого промышленника Гуго Вогау, на момент начала Первой мировой войны — одного из богатейших людей России. Май 1915 года
Однако создаётся впечатление, что временем накала шпиономании и германофобии, да и вообще самых невероятных слухов, стал в России следующий 1915 год. Писатель М.М. Пришвин верно выразил в своём дневнике, что «внутренний немец… был на фронте, потом в людях с немецкими фамилиями, потом в купцах…» Враг стал казаться вездесущим, а слухами о предательстве оказалось легко объяснить любые потери. По такой схеме было создано, например, дело полковника С.Н. Мясоедова или дело генерала П.К. Ренненкампфа. Даже в случае осуждения (в первом случае) или оправдания (во втором) в обществе крепилось и ширилось мнение, что в высших сферах действует «немецкая партия», которая работает во вред России. После майского антинемецкого погрома в Москве уверенность, что немецкие шпионы и их пособники стоят за каждым взрывом или аварией на заводах или портах, стала непоколебимой.
Антихристы и проститутки
Германофобские настроения смыкались со слухами, которые имели религиозно-эсхатологическое и/или фольклорное содержание. Пришвин писал: «Старые бабы пророчествуют пришествие антихриста и анчутки беспятого, свержение царств и бедствия народные», а «всякое необычное явление в природе рождает зловещие толки: «грибы рано пошли — войне конца не видать» и т.п.» Это ощущение было характерно для жителей не только России и не только представителей «невежественного» крестьянства. Тот же Пришвин передаёт разговор с австрийским профессором из Галиции, который «ещё за два года до войны начал чувствовать её», а «потом [появилось] всё больше и больше бродячих собак» в качестве приметы большой бойни.
В приметы вообще стали верить больше обычного: «Пахарю снилось, красная тучка растёт и растёт, а утром, когда сказали «война», он рассказал о красной тучке, и все это подхватили, и потом все говорили, что перед войной на небе была красная тучка». Так же было и с событиями на фронте. Пришвин писал: «Когда взяли Варшаву, в народе говорили и спрашивали меня не раз — Варшаву взяли, а, слышно, опять мы её отбили, верно? Точно так же и о Ковне говорят: будто бы мы её опять взяли. Так же было и о Львове, и о Перемышле. Создаётся какое-то впечатление воскресения в третий день по Писанию».
 Одним из главных поставщиков слухов до самой своей смерти, безусловно, был Григорий Распутин
Одним из главных поставщиков слухов до самой своей смерти, безусловно, был Григорий Распутин
Однако была ещё одна черта, сильно беспокоившая российские власти, которые неустанно повторяли, что «воспрещается публичное разглашение или распространение имеющего общегосударственное значение ложного, возбуждающего общественную тревогу слуха о правительственном распоряжении, общественном бедствии или ином событии». Это касалось растущего среди народа мнения, что царь, царица, министры и генералитет продали Россию немцам. «Вы думаете, эта война идёт из-за каких-нибудь наших интересов? Нет, ничего подобного — просто-напросто наш Государь Николай и германский Вильгельм как раньше пили шампанское вино, так и теперь пьют его вместе; войну же ведут из-за того, чтобы уничтожить миллионы порядочных людей», — говорили городские и сельские обыватели.
Подобные десакрализующие императора слухи рождали мысли совершенно погромного содержания. Льва Тихомирова в апреле 1915 года тревожили рассказы, что «по рынкам, по лавкам будто бы говорят, что не хотят идти на войну, не пойдут на призыв, разграбят лавки и устроят забастовку». Избавление должна была принести ритуальная смерть самодержца: «Скоро будет всероссийское собрание, проберут Государя императора и наследника, затем их кончат (убьют), а правительство сожгут. Как Иисуса Христа распяли, так и распнут Государя императора и наследника, после чего жить станет легче».
 Фронтовая фотография. В представлении обывателя сестра милосердия превратилась в фигуру, аналогичную тыловой проститутке
Фронтовая фотография. В представлении обывателя сестра милосердия превратилась в фигуру, аналогичную тыловой проститутке
Историк Б.И. Колоницкий указывает, что десакрализация затронула всю царскую фамилию — теперь ни император, ни его супруга более не воспринимались в качестве священных фигур. При этом дошло до парадоксов:
«На распространение слухов о непристойном поведении царицы и двух старших царевен повлияла их патриотическая инициатива. Они, окончив медицинские курсы, работали сёстрами милосердия. Императрица гордилась своей деятельностью, на фотографиях она с дочерями изображалась в форме Красного Креста. Появились открытки с фотографией царицы, ассистирующей хирургу во время операции. Но, вопреки ожиданиям, подчас и это вызывало осуждение. Считалось непристойным, что девушки ухаживают за обнажёнными мужчинами. В глазах же многих монархистов царица, «обмывая ноги солдатам», теряла царственность».
Для русских солдат, указывает Колоницкий, фигура медсестры «стала символом разврата, тылового свинства». Профессиональные проститутки, «подражая моде высшего света, использовали форму Красного Креста». Уже в декабре 1915 года раздавались заявления среди народа, что «старая государыня, молодая государыня и её дочери… для разврата настроили лазареты и их объезжают».
 Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми. Все годы Первой мировой войны их буквально преследовали разные слухи
Императрица Александра Фёдоровна с дочерьми. Все годы Первой мировой войны их буквально преследовали разные слухи
Таким образом, шпиономания и германофобия под влиянием народного недовольства войной, а также под воздействием традиционного религиозно-мифологического сознания перерастали в России уже в твёрдую уверенность о необходимости прекращения войны, пусть даже путём убийства царя.
Чёрные автомобили
После падения монархии новая волна слухов захлестнула большие и малые города. В Москве и Петрограде, например, с быстротой молнии разнеслись новости о «чёрных автомобилях», которых, действительно, было много возле Таврического дворца в дни революции в связи с необходимостью перемещения депутатов Думы и комиссаров Временного комитета. Сначала в одной, а затем в другой столице начали появляться подробности. Один из московских журналистов писал:
«Нам удалось выяснить, что таинственный автомобиль, следуя ночью третьего дня к Поварской улице с потушенными огнями и без номера, был остановлен одним из милиционеров, который потребовал зажечь фонари. В это время из окон автомобиля были выставлены три револьвера, из которых была произведена стрельба, после чего автомобиль быстро умчался. К счастью, милиционер не пострадал».
 Проверка пропусков. Перемещение масс людей с оружием и зачастую непонятными документами способствовало появлению самых нелепых слухов
Проверка пропусков. Перемещение масс людей с оружием и зачастую непонятными документами способствовало появлению самых нелепых слухов
Историк В.Б. Аксёнов указывает:
«В слухах о «чёрных автомобилях» 1917 года сплелись несколько дискурсов: оппозиционно-политический, представлявший Россию пассажиркой «взбесившегося шофёра», криминальный, связанный с рассказами о банде «Чёрного Билля», революционный, настоянный на слухах о протопоповских пулемётах и исчезнувших десяти автомобилях, эсхатологический, основанный на представлениях об автомобиле как изобретении дьявола. Динамика образа «чёрного авто» в 1917 году от роскошного кабриолета до грузовика отразила развитие обывательских страхов перед насилием — сначала право-контрреволюционным, далее лево-анархистским и затем лево-контрреволюционным».
Волны слухов, захлестнувшие городских и сельских обывателей, разрушили устоявшуюся картину мира, органично дополнили безумные для прежнего мирного времени новости с фронтов Великой войны и способствовали всеобщей революционизации масс в смысле готовности легко сбросить прежние формы власти, экономики и социальной жизни.