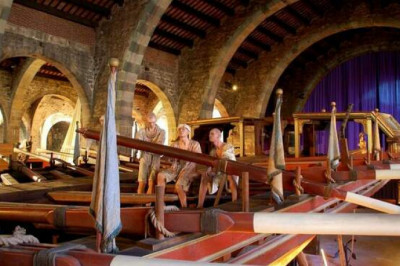В слове «утопия» слышится приговор иллюзиям. «Это утопия» – так оцениваем мы пожелания обществу стать честнее, а людям – гуманнее друг к другу. Реальность, как считает здравый обыватель, не гуманна, а разумна. Гегелевская мысль: «Всё действительное – разумно, а всё разумное – действительно», – преподносится нам ежедневно в самых шокирующих обличиях, и приходится признать, что, раз данное уродливое явление существует, стало быть, оно разумно. История подчиняется логическим и, следовательно, не гуманным, но прагматическим законам. Когда обыватель посещает церковь, его убеждают в главенстве морали, но его функции в обществе (как рабочего, чиновника или солдата) с абстрактной моралью не связаны – развитие промышленности и перемещение границ диктуются отнюдь не нравственностью. Потребности общества – вещь объективная, говорим мы друг другу. Cегодня популярностью пользуется так называемая «пирамида Маслоу», американский социолог наглядно изобразил, как ходом истории правят естественные потребности людей и логика прагматики.
Когда реформаторы 90-х годов употребляли выражение «шоковая терапия», они, собственно говоря, хотели выразить то общее место в рассуждениях об исторических переменах, которое гласит: лекарство соревновательной модели горькое, но его положено глотать, если хочешь прогресса. Да, выживут не все; но кто вам обещал, что прогресс гуманен? Никто правда не задаёт вопроса: а зачем прогресс, если он не гуманен?
Считается, что попытка объективные законы эволюции изменить – губительна; реальная прагматическая жизнь – рынок, армия, налоги, компромиссы, удушение конкурента и т.п. обязаны соблюдаться. Попробуйте сдвинуть один кирпич разумного здания, и вся история рухнет.
«Только не революция» – этот припев сегодня слышен часто. Как ни странно, люди сегодня готовы даже к войне, а вот революция их пугает (хотя ядерной революции в природе вещей существовать просто не может, и очевидно, что к гибели человечества революция не приведёт). Однако страх перед революцией напрасен – чтобы случилась революция, необходимо определить, какому строю она противостоит, какой строй собирается свергать. А это не всегда легко установить: невозможно оппонировать самой жизни. Если несправедливости жизни олицетворяют разум и прогресс, то как же им оппонировать?
Мечтатель Фурье, например, или прекраснодушный Оуэн, или Кампанелла, или Мор в лучшем случае могли рассчитывать на локальное новаторство в пределах фабрики или небольшой общины, а в самом расхожем варианте оставляли тезисы на бумаге как искушение для потомков. Фантазия Платона искала применения в Сиракузах для построения общества, но ничего не получилось, и философ удовлетворился созданием Академии.
Да, Франсуа Рабле описал идеальное общество равных, живущих по собственным законам людей, которым никто не может навязать волю извне; но это же художественная литература, фантазия! Но почему, почему? Этот вопрос никак не оставляет социальных философов – почему же мы можем соблюдать моральные принципы внутри семьи и договориться о разделении труда внутри квартиры (правды ради скажем, далеко не всегда), а внутри страны не получается?
Низовое децентрализованное самоуправление, федеративная республиканская власть с самоуправлением на местах, свободное развитие каждого – в Телемской обители, сочинённой Рабле, – да, прочесть о таком приятно. Но возможно ли такое в реальности? Добрый монарх это ещё может устроить, он организует лицей и там выпестуют Пушкина, ну а если доброго монарха не нашлось, и лицея такого нет, и аббатства такого нет – что делать? Приходится терпеть и довольствоваться малыми делами: в спецшколе микрорайона, в редакции дерзкой газеты, в мастерской непризнанного художника.
На фоне этой разумной картины история Парижской коммуны выглядит невероятно.
Парижская коммуна ничего не разрушила; революция случилась в оккупированном городе во время войны, когда уже явно ничего хуже быть не могло; революция остановила голод и не повлекла за собой никаких жертв – помимо (об этом речь ниже) нескольких расстрелянных заложников. Это была естественная революция, не насаженная сверху, не завезённая в пломбированном вагоне и – вот что важно – осуществлённая по благим рецептам утопий: Прудона и Бланки. Не террористы, не фашисты и даже не коммунисты, а беспартийные учителя и студенты – их не так просто пришпилить в гербарий варваров, осуждённых цивилизацией. Но, однако, это была революция.
Революция во Франции явление перманентное: Великая французская революция в 1789 году; термидор 1794 года, сменивший революционный Конвент на директорию; переворот Бонапарта 18 брюмера 1799 года; превращение республики в империю в 1804 году; Июльская революция 1830-го; революция 1848-го; переворот 1851-го; провозглашение республики и сразу следом коммуна 1871-го.
Интересно рассматривать этот цикл перемен как смену разных типов революционного сознания. От буржуазной революции к парламентской республике, от неё к империи, от империи к монархии, от монархии к президентской республике, затем опять к империи, затем к парламентской республике снова – и неожиданно к пролетарской коммуне. Важно то, что эти этапы, чередуя республику с империей, буржуазную мораль с пролетарской, образуют путь становления социального республиканского сознания нации.
Когда Троцкий говорил о «перманентной» революции, он исходил из опыта становления революционного республиканского сознания во Франции, которое одну стадию революции постепенно переводило в другую стадию.
Такой взгляд на становление республиканского сознания, а «республика» – это важнейшая утопия мира, исключает понимание революции как заговора. Революция – это один из способов воплощения утопической идеи. Если с тираном Дионисием договориться не удалось, Платон мог бы попытаться построить республику революционным путём. Философ этого не сделал, но вот граждане Генуи в своё время попытались. Революцию не делает какая-то одна партия, иначе это был бы политический переворот; подлинная революция – это не просто захват власти, но прежде всего социальные перемены, облегчение страданий.
Революцию осуществляет общая воля народа. Когда народ восстаёт, он, разумеется, верит в утопию – и уже потом, приведя к власти жестоких людей, часто убеждается в том, что молочные реки и кисельные берега бывают только в сказке. Уже потом, в ходе фракционной борьбы коалиционного правительства, одна из партий, как правило, берёт верх. Но никакая революция не стала бы возможной, если бы не представляла волю всего народа. Как эта воля проявляет себя, через каких именно «пассионарий» (термин стал популярным после испанской революции 1936 года, во многом повторившей судьбу Парижской коммуны) – это всегда сюрприз истории. Но именно клубок воль, собрание социальных идей воедино, именно тяга к утопии становится характеристикой народного желания.
И Парижская коммуна, яркая и быстрая комета революционной истории, как идеальная модель показывает нам, что такое революция и что такое утопия. В комитет Парижской коммуны входили рабочие, журналисты, писатели, художники, политики, студенты, и больше всего, конечно, было рабочих. По сути дела, Парижская коммуна – это первое в истории правительство рабочих, первое правительство, состоявшее из реальных тружеников. Причём все участники коммуны принадлежали разным партиям – у них не было единой идеологии.
Здесь надо оговориться: отсутствие единой идеологии не означает разнонаправленности. Было бы невозможно объединить в единый протестный митинг людей, приверженных как левым, так и правым идеям. Точнее, такие прецеденты история тоже знает: неуклюжее сопротивление гитлеровской программе в Веймарской республике привело к срастанию левого и правого крыла или так называемые протесты на Болотной площади из новейшей истории, которые в силу разнонаправленности взглядов не могли сформировать никаких социальных требований.
В Парижской коммуне не было единой идеологии, хотя направленность социальных преобразований была ясна всем. Сегодня слово «коммунист» стало без малого бранным, и по понятной причине: все уже знают про ГУЛАГ и про насилие, осуществлённое компартией над обществом в Кампучии и Китае. Однако слово «коммуна» обозначает всего лишь самоуправление трудящихся, общую семью и фактически родственно русскому слову «община». Коммунар – это не что иное, как член трудовой общины. И когда звучит песня «Коммунары не будут рабами», она означает лишь одно: члены вольной рабочей общины не признают над собой хозяина. В этом желании нет ничего постыдного, напротив. Трёхцветный французский флаг коммунары Парижа заменили на красный, поскольку – так считали они – триколор опозорил себя имперскими амбициями во франко-прусской войне, а красное знамя есть знамя солидарности трудящихся, но не символ славы империи.
И хотя в комитеты коммуны входили совершенно разные партии, сходились все в одном: эксплуатации человека человеком быть не должно, интернациональная солидарность есть условие развития истории. Одной партией (будь то хоть прудонисты, хоть бланкисты, хоть неоякобинцы) сплотить весь народ для борьбы было бы невозможно. Революция вообще и коммуна в частности – это никогда не заговор; иногда революции пытаются представить как заговор кучки злодеев против цивилизации, но такое в принципе невозможно. Когда вам рассказывают историю про завезённые японцами деньги для организации революции 1905 года в России, попробуйте представить себе, что японцы отправили эти деньги, например в Англию, чтобы сбросить власть парламента и короля. Требуется долгая работа всей истории и культуры страны, чтобы народ поднялся. Не только огромная страна, но даже и большой город не сможет подняться, если всё население (и каждый по своей причине!) не охвачено единой идеей.
Например, Октябрьскую революцию в России провели вовсе не одни большевики (хотя их принято сегодня считать главными виновниками событий, но решение принимал Революционный комитет, РВК, куда входили и левые эсеры, и представители нацменьшинств, и меньшевики, и анархисты). Так и в случае с Парижской коммуной – здесь не было одной партии, направлявшей рабочее движение, но это был сплав программ. Этот союз идей оформился в пролетарскую коммуну, в содружество тружеников, в сознательную самооборону рабочего класса, осознавшего себя в целом как самостоятельную страту. Это единство возникло неизбежно перед лицом насилия внешнего (интервенция) и классового (французская буржуазия). В Парижской коммуне не присутствовала пресловутая «партия ленинского типа», после революции подмявшая под себя все прочие партии. В комитетах Парижской коммуны было равенство, явленное впервые – и обусловленное экстремальной ситуацией.
История Парижской коммуны широко известна, тем не менее напомню её в двух словах.
 Парижане перевозят пушки на Монмартр, не желая, чтобы они попали в руки пруссаков
Парижане перевозят пушки на Монмартр, не желая, чтобы они попали в руки пруссаков
Дело было так. Президент Франции Луи Наполеон в 1851 году произвёл переворот, провозгласил себя императором, был в этом качестве одобрен парламентом и внешним миром. Надо сказать, что внешний мир был доволен: Франция, страна перманентной революции, всех страшила, а буржуазная монархия всех устраивала. В 1870 году новый император Наполеон III начал войну с Пруссией Бисмарка. Войну вёл бездарно, под Седаном был разгромлен и попал к Бисмарку в плен. Во Франции к власти пришла республика, которую возглавил социалист Тьер.
На фоне этой новой республики в Париже началось городское восстание. Это было пролетарское, не буржуазное восстание. Правительство Тьера переехало в Версаль, откуда и отдавало приказы о ликвидации провозглашённой в Париже коммуны. Бисмарк в свою очередь настаивал на ликвидации коммуны. Таким образом, и победившая сторона (Пруссия), и проигравшая сторона (Франция) объединили усилия для разгрома города Парижа. И через 72 дня после провозглашения коммуны её уничтожили.
Коммуна была прецедентом вольной городской общины, которая жила по своим внутренним законам и не признавала ни бедности, ни ростовщичества, ни налогов, ни власти религии, ни диктата закона. Это был пример городского самоуправления. Иными словами, это была абсолютная утопия. Эту утопию расстреляли.
Отношение к Парижской коммуне варьировалось: от проклятий со стороны буржуазии, считающей коммунаров варварами, до того, что в СССР учредили своего рода культ Парижской коммуны, объявив её предтечей Советской власти. Ни то ни другое действительности не соответствует.
Важно знать, что коммуна в Европе, как и вольный город, противостоящий государству, – это отнюдь не локальное явление XIX века. Вольные города в Европе, не находящиеся под ферулой ни Священной Римской империи, ни княжеств или монархий, существовали со времён Средневековья. Этот опыт европейской культуры горожанин Европы получает просто генетически. Вопрос лишь в том, способен ли горожанин этот опыт воспринять – осознать себя гражданином города, членом коммуны. Исследование французского учёного XIX века Огюстена Тьерри показывает историю коммун начиная со знаменитой коммуны города Камбре, возникшей в результате городской революции в 1076 году. Тьерри приводит цитату хрониста тех лет: «Горожане давно жаждали коммуны».
Как и в случае Парижской коммуны, коммуна в Камбре была подавлена иностранными войсками ужасающе жестоко: «Солдаты преследовали бегущих до церквей и убивали всех, кто попадал им в руки. Пленникам они ломали руки или ноги, выкалывали глаза или волокли к палачу». В XIX веке подавление Парижа было ещё страшнее – количество убитых, расстрелянных без суда (по суду расстреляли немногим более ста человек) достигало тридцати тысяч, а по некоторым данным, и сорока. Число погибших в Париже коммунаров намного превышает число погибших в Париже гугенотов в печально известную резню Варфоломеевской ночи. Последних, уцелевших в уличных боях коммунаров расстреливали на кладбище Пер-Лашез, и с тех пор это место стало священным для всех, кто чтит свободу.
Коммуна в Париже 1871 года не была единичным явлением в XIX веке, одинокой вспышкой городского отчаяния, длившейся семьдесят два дня, как это иногда представляется. То был логический – и даже традиционный для европейца! – выход из неразрешимой политической ситуации, возникшей после поражения Франции в бездарной франко-прусской войне. Огромный город Париж, государство в государстве, вдруг осознал себя силой; город вдруг понял, что достоинство горожан, ремесленников, подлинных людей труда состоит в том, чтобы не подчиниться интригам власти.
Чиновники то зовут вас на войну, то подписывают капитуляции – обрекая вас на репарации и голод: администраторы повышают количество рабочих часов, но урезают зарплату – и всё это из интересов государства. Какого такого государства? И вдруг до горожан доходит: мы сами – государство. Помимо нас – государства нет. Это же мы производим товары и продукты, ради которых жирные ведут войны. Разве мы хотели войны с Пруссией? Разве мы звали в поход? И почему же теперь, когда эта бездарная война проиграна, мы должны выплачивать контрибуции и голодать? Мы не признаём поражения просто потому, что мы не хотели воевать. Мы создаём этот мир. Почему же владеть этим миром и нами должны другие люди?
И тогда-то загрохали ставни
И город, артачась,
Оголённый, без качеств,
И каменный как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй, утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.
Это писал Пастернак о революции 1905 года в России, так напоминавшей по своему характеру Парижскую коммуну, но увы, городской тип сознания не был укоренён в русскую культуру. Во Франции же это самосознание горожан есть абсолютная константа.
Париж отказался разделить политику французской буржуазии. И парижане не были одиноки, отнюдь! Сходные типы коммун образовались в то время по всей Франции – в Лионе, Тулузе, Сент- Этьене, в испанской Картахене и даже в колониальном Алжире. Горожане брали на себя функции префектов, судей, законодателей, прокуроров. Горожане сами занимались распределением товаров и организовывали потребительские кооперативы. Наподобие Советов в первые месяцы Советской власти (эта форма общественного управления была впоследствии скомпрометирована большевиками, сделавшими из Советов инструмент единоначалия), наподобие анархо-синдикалистских хозяйств в Испании 1936 года, наподобие кибуцев, по образцу фаланстеров Фурье – во французских коммунах стали работать институты взаимопомощи, организованные самими горожанами. Ещё позже, в осаждённом большевиками Кронштадте в 1921 году, горожане строили коммуну такого же образца, основанную на отрицании государства, но на правилах городской взаимопомощи и кооперации. «За Советы, но против большевиков» – такой лозунг означал не что иное, как возврат к коммуне парижского типа.
В Париже 1871 года больницы и школы продолжали работать, суды функционировали, но управлялись они уже не по государственным (т.е. капиталистическим, буржуазным) законам, но по законам городского совета. Так, заработная плата чиновников коммуны не могла превышать шести тысяч франков (очень низкий оклад наёмного рабочего), плата за квартиру была коммунарами упразднена, ломбарды вернули вещи и инструменты, книги и одежду, сданные бедняками в залог. В единый миг сгинуло ростовщичество. (Напомню в скобках, что запрет на ростовщичество был первым из запретов, который наложил Савонарола, построив свою Республику Иисуса Христа во Флоренции 1494 года. Менялы и ростовщики были изгнаны из города.)
Городское самоуправление Парижа возникло как альтернатива власти государства, которое себя дискредитировало. Государство ведь существует, чтобы обеспечить порядок в обществе и защиту граждан. А если ни того ни другого нет, если есть угнетение слабых сильными и война, на которую богатые посылают бедняков, тогда зачем такое государство нужно? Этот простой вопрос задали парижане в 1871 году. Почему мы должны отдавать сделанный нами продукт на нужды войны, которую не мы затеяли? Не отдадим. Разумнее распределить излишек между нуждающимися в городе, который голодает.
Эта мера «распределение излишка в пользу голодающих» была извращена Лениным до масштабов принудительной развёрстки, причём всё изъятое у крестьянства насильственным путём шло именно на фронты Гражданской войны, тогда как горожане Парижа или Флорентийской республики Савонаролы имели в виду простую вещь: накормить своих соседей-бедняков. Савонарола учредил кредитный банк, выдававший беспроцентные кредиты бедноте; до него в медичийской Флоренции кредит выдавали из 32 процентов выгоды. Парижане, отменив квартплату и дав беспроцентные займы, решили этот вопрос точно так же. Парижане в 1871 году рассуждали просто – как этой ясности и простоты иногда не хватает! Государство предаёт народ, говорили они, что же остаётся делать народу? Народ в ответ отказывается считать государство Богом данной субстанцией, единственно возможным методом управления обществом.
Почему же надо всё время слушать указы государственного аппарата, если чиновники лгут? Оброки и налоги на войну, нищета, удушающий капитализм внутри страны и международные авантюры – всё это сочетается скверно. Все средства общества пущены на войну, а в стране голод; бедняки голодают, а буржуазия жиреет. Достаточно поглядеть на карикатуры Оноре Домье тех лет – обессиливший работяга рухнул на землю и буржуй, взирая на него, резюмирует: «Так много работать – поневоле устанешь». Поглядите на рисунки Домье – на согнутые спины, тощие животы и худые шеи рабочих и на чванные рожи обывателей, новый тип богачей, буржуа, которые стали играть роль вчерашней аристократии. Это слишком типично, чтобы пересказывать подробно: разве это не повторялось в новейшей истории десятки раз?
Так случилось и тогда тоже: Великую французскую революцию делало так называемое третье сословие, то есть буржуазия. Но за годы наполеоновской власти, за время правления Бурбонов, последовавшее за Бонапартом, буржуазия из класса, жаждавшего свободы и перемен, из ремесленников, отстаивавших право на независимый труд и самостоятельность, превратилась во владельцев банков и заводов, в рантье, в спекулянтов и ростовщиков, в собственников, став фактически аристократией нового типа. Иными словами, перемен и свобод уже не требовалось: искомый уровень был достигнут, зачем же его менять? Как говорится в таких случаях, «только бы не было новой революции», «только не надо пересматривать итоги приватизации»; и революционный пыл иссяк. Делакруа ещё в 1830 году написал полотно «Свобода, ведущая народ», это был призыв к смене правящей династии, к отставке Бурбонов, а вовсе не к революции, не надо путать.
«Союз несчастных жен, мужей, отцов! Их труд, права и скорбь я защищать готов» - Виктор Гюго
Никаких социальных перемен уже никто не хотел из тех, кто владел заводами. И когда на улицы вышла голодная чернь в 1848 году, во время настоящей революции, Делакруа (сын Талейрана, заметим в скобках) уже никакого революционного полотна не написал – он в это время писал романтическую охоту на львов в Марокко. Революция перестала быть романтически привлекательной, это с революцией часто бывает, когда она настоящая. Привлекала уже империя. Аристократия нового типа, нувориши, новые богачи и новые собственники пожелали иметь свою империю, новую ласковую империю.
Луи Наполеон Бонапарт (племянник Наполеона I) перевел республику в ранг империи, и это удовлетворило тоску республиканцев по вчерашней имперской славе. Они, участники баррикад 1830 года, сегодня хотели видеть себя не менее значительными, нежели их предшественники, князья от рождения. Неоимперство стало модным, возник своеобразный неоимперский стиль в живописи и литературе; паточная историческая живопись, «гламурная» глянцевая литература, такая же музыка. Точно так же, как тоска по былому величию возбуждала немцев в 33-м году ХХ века. Так и во Второй империи те, кто именовал себя республиканцами и даже социалистами, стали внимательней относиться к национальной славе.
И когда случилась война с Пруссией, то это была война в кружевах, шли в мясорубку, как на бал, вернулись, однако, не все. Как это напоминает настроения в русском обществе перед Первой мировой, когда все поэты Серебряного века, Брюсов и Блок, не говоря уж о прочих, когда все художники во главе с Гончаровой и Ларионовым принялись сочинять гламурные композиции с архангелами и поверженными врагами. Война с Пруссией была авантюрой, причём опасной. Это была империалистическая война, затеянная ради денег и влияния, и только. Виктор Гюго, скажем, был уверен, что лишь ревность к дядиной славе понудила жовиального Луи Наполеона, славного лишь альковными победами, искать побед на поле брани. И Франция триумфально проиграла в битве под Седаном, а сам герой будуаров – любимец салонов Луи Наполеон, который правил целых девятнадцать лет, успев создать субкультуру своего правления, внедрив танец канкан и сервильных «исторических» живописцев, – угодил в плен к Бисмарку. Время Второй империи кончилось внезапно, вдруг. Прекрасный гламурный мир развалился – буржуазии надо было отступать, перестроить политику.
Армия Бисмарка хлынула во Францию, прусские войска подошли к Парижу. Пока в осаждённом Париже был голод, а французские батальоны капитулировали один за другим, власть в стране переходит к так называемому комитету Национальной обороны, который возглавил Адольф Тьер, и это правительство Национальной обороны (очень хочется сказать: «Временное правительство», настолько история с правительством Тьера похожа на ту ситуацию, что сложилась в России перед февралём 17-го года в связи с авантюрной войной, отступлением и отречением царя) решает сначала бороться до последнего, «отдать тысячу жизней» (!), а спустя два месяца национал-патриотизм сменяется на пораженческие настроения и все ура-патриоты желают сдаться Бисмарку. Сдаются на выгодных условиях, французам разрешено даже сохранить армию, можно даже сохранить пушки!
Президент Тьер – социалист (ср.: Керенский во Временном правительстве – тоже социалист), но он тяготеет к монархии. Адольф Тьер влюблён в Наполеона I Бонапарта и влюблён (социалист!) в идею империи. Он даже написал многотомную историю, назвав свой труд «Империя», прославляющую наполеоновскую Францию. Удержать Францию в состоянии влюблённости в империю, не разрушить капиталистических приобретений и мягко сдаться Бисмарку – вот задача так называемого «республиканского» правительства Национальной обороны. И всё идёт недурно, Бисмарк принимает почётную капитуляцию, но приятную договорённость ломает поведение Парижа.
Парижане отказываются признать себя побеждёнными и отказываются выразить покорность правительству Тьера и Бисмарку. Это любопытная позиция, её требуется разъяснить.
Первое, что делает восставший народ Парижа, – валит знаменитую триумфальную Вандомскую колонну. Надобно оценить и понять этот жест. Вандомская колонна была отлита Наполеоном из австрийских, русских и германских пушек, захваченных в кампаниях 1805 года и утверждала национальный триумф, имперский триумф. Парижане в 1871 году отказываются признавать триумфы империи – они валят символ победы над иными племенами, и это во время войны с Пруссией! И при этом парижане не желают сдаваться. Этот жест может показаться нелепым, но он абсолютно ясен: мы не можем сдаться и признать поражение, поскольку мы в принципе против войны, мы не можем воевать с Пруссией – у нас нет на это причин, но и поражения признать не желаем. (Сравните это с мало понятным, если не знать контекста Парижской коммуны, лозунгом Троцкого «Ни мира, ни войны, а армию распустить», вызванным практически теми же причинами.) Париж 1871 года программно интернационален – во главе мэрии становится Ярослав Домбровский, поляк. Домбровский приехал во Францию от Гарибальди, а прежде участвовал в Польском восстании против Российской империи. Здесь, в Париже, скрестились и сошлись все республиканские движения, направленные против всех империй – и против Австро-Венгерской (Гарибальди), и против Российской (Домбровский – против Второй французской империи), и против нарождающегося рейха.
После падения Вандомской колонны и декларации интернациональной солидарности, в том числе и с трудящимися Пруссии, Парижская коммуна оказывается между двух огней.
С одной стороны, так называемое «законное» буржуазное правительство Тьера, это правительство переехало в Версаль, оно желает сдать Париж Бисмарку. Париж ещё не восстал, ещё не открыты тюрьмы и не взломаны банки – Париж всего лишь просит оружия у своего правительства – для обороны. Тьер отказывает. Он не хочет вооружать рабочих. Враг, нападающий с другой стороны, – это Бисмарк, канцлер не желает в капитулировавшей стране коммунистических республик. Бисмарк выдвигает Тьеру требование – уничтожить коммуну. И для такого благого дела он даже даёт волю пленённой под Седаном армии – французские гвардейцы возвращаются домой, чтобы задавить революцию. Парижская коммуна расстреляна пушками самой Франции, теми пушками, которые Бисмарк сохранил для французских войск по условиям капитуляции, – эти пушки правительство Тьера повернуло против парижан. Зажатая между двух врагов, Парижская коммуна изначально была обречена, тем знаменательнее трагические усилия строительства общества равных; это строительство внутри камеры смертников длилось ровно 72 дня.
Зачем было строить? Не равнозначно ли это было тому, что люди копали себе могилу? Но люди делали всё – они строили на века, строили обстоятельно. Некоторые парижане роптали – выборы в центральный комитет коммуны затянулись, а враг у ворот. Но коммунары хотели, чтобы все было по закону. Произвола в коммуне быть не должно. Прежде всего: открыть тюрьмы, выпустить политзаключённых, накормить голодных, остановить детскую смертность. В городе ели кошек и крыс – надо было покончить с голодом. Сперва горожане решали первые насущные проблемы и готовы были договариваться – с Бисмарком, с Тьером, с пленённым императором, с администрацией на местах. Так же точно коммунары средневековых городов готовы были договариваться хоть с папой, хоть с епископатом, хоть с императором, но прежде всего дайте накормить голодных. В комитетах коммуны не было главенства определённой партийной идеологии: в коммуну входили неоякобинцы, анархисты, синдикалисты, члены Интернационала (то есть марксисты), бланкисты, прудонисты – и невозможно сказать, какая партия диктовала условия борьбы и планы строительства общества.
То было подлинное движение снизу – не политический переворот, не захват власти, но исходящее от самих тружеников волеизъявление. То было в подлинном смысле слова правление масс трудящихся – то, что большевики декларировали, но чего и не допустили.
Большевики, взывающие к массам, этих самых масс опасались – первыми, кого большевики подавили в ходе фракционной, постреволюционной внутри правительственной борьбы, были анархисты и анархо-синдикалисты. Ленинская партия «нового типа» буквально узурпировала власть, причём проделала это стремительно. То, что было как бы волеизъявлением всего народа, народной утопией, спустя короткое время вошло в рамки так называемой «партийной программы».
Этот вихрь от мысли до курка
И постройку, и пожара дым
ПРИБИРАЛА ПАРТИЯ К РУКАМ (курсив мой. – М.К.),
Направляла, строила в ряды.
Так наивно проговаривается пролетарский поэт, гуманист Маяковский, желавший, чтоб «счастье сластью огромных ягод дозрело на красных октябрьских цветах» и рядом с этим благостным пожеланием общего счастья, этакое воровское «прибирала партия к рукам». Пролетарский поэт радостно пишет о том, как «стала оперяться моя кооперация», и рядом – «прибирала партия к рукам». Впрочем, мы знаем, как поэт расплатился за эту путаницу.
В Парижской коммуне ведущей партии среди многих движений не было. И к рукам соответственно никто ничего не прибрал. Во главе движения стояли и социалисты, и анархисты, за коммуной следил Маркс, но собственно «интернационалистов» было немного, преимущественно в комитетах были прудонисты (приверженцы учения Прудона) и бланкисты (последователи Бланки). В комитете не было «вождя», а символической для коммунаров Парижа фигурой стал вечный узник Огюст Бланки.
В истории сохранились имена и судьбы тех, кто ради свободы других, просто по причине того, что он боролся за независимость тружеников от угнетателей, жертвовал собственной судьбой, тех, кто провёл долгие годы в тюрьмах просто потому, что писал о равноправии.
Такова судьба Кампанеллы и Чернышевского, Огюста Бланки и Антонио Грамши, в Новейшем времени так можно сказать про Антонио Негри. Все эти люди провели в заточении много десятков лет, отказываясь от помилования, поскольку в обмен на помилование им было предложено раскаяться в убеждениях. Как выразился Чернышевский, когда ему на каторге предложили писать письмо государю-императору с покаянием: «За что же я должен каяться, за то, что у меня голова иначе, чем у царя, устроена?» Вот и Бланки не умел каяться – он желал добиться справедливого устройства общества, только и всего. Наивно, да. Но ничего более достойного не придумано.
Огюст Бланки провёл в заключении, в нечеловеческих по жестокости условиях, 36 лет; и хотя он не был инициатором Парижской коммуны, просто не мог бы, находясь в тюрьме, он стал её несомненным символом.
Требовали помилования Огюста Бланки – коммунары просили об этом главу правительства Тьера (социалиста!), получили отказ. Коммуна взяла заложников – многие вменяют центральному комитету коммуны в вину этот поступок; трудно судить людей, находящихся на краю гибели. За десять лет до коммуны Виктор Гюго в романе «Отверженные» описал события революции 1848 года – бойню на баррикаде, убитых гвардейцами горожан и убитых горожанами гвардейцев, – Гюго знает, что убивали все. Гюго пишет так: «Оборонялись с угрюмым упорством. Люди согласны умереть, только бы убивать… Когда всё было израсходовано, когда не оставалось ни пуль, ни пороха… каждый из обречённых вооружился двумя бутылками… в бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности, ничего не утаивая. Греческий огонь не унизил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда».
Добавьте к этому описанию беспощадной борьбы с обеих сторон картину Оноре Домье «Беженцы», написанную в те дни. Домье показывает цепочку эмигрантов – беглецов из Франции, они уходят от расправы, бегут по горной местности, скорее всего – в Испанию. (Пройдёт шестьдесят лет, и эмигранты из республиканской Испании побегут в противоположную сторону, спасаясь от франкистов.)
 Казнь архиепископа Дарбуа и других заложников 24 мая 1871 года
Казнь архиепископа Дарбуа и других заложников 24 мая 1871 года
Виктор Гюго был едва ли не единственным интеллектуалом в 1848 году, который не отвернулся от восстания народа. А во время Парижской коммуны иллюзий уже не было даже и у Гюго: народ бывает груб. События развивались со скоростью торнадо – от попыток договориться до обречённой борьбы. Осаждённые начинали с сугубо корректных мер: даже забирая деньги из Парижского банка (был взят миллион в пользу голодающих), они не конфисковали деньги, но одолжили сроком на год под расписку. Специальным декретом был остановлен разгром реакционных газет. Но всего через месяц, когда кольцо осады сжалось, они вынуждены были взять заложников (общим числом 74 человека). Это действие было ответной мерой на расстрелы коммунаров, которое проводило правительство Тьера: коммуна пригрозила ответными казнями. В числе заложников был архиепископ Парижа – коммуна предлагала архиепископа обменять на Огюста Бланки, на уже старого, практически уничтоженного тюрьмой человека. Тьер отказал.
Бланки! Это имя было паролем стойкости и отваги, старик нужен был коммуне как знамя. Это он, кстати сказать, посоветовал – из тюрьмы – отказаться от триколора и взять красное знамя как символ республиканской свободы. Коммуна предложила пятерых заложников, включая архиепископа, в обмен на свободу Бланки. Тьер отказал. Коммуна предложила всех 74 заложников в обмен на свободу одного Бланки. Зачем вам старик? Он не террорист, не боевик. Всего лишь мыслитель. Тьер отказал. Коммуна предложила отпустить всех заложников в обмен на обещание (всего лишь обещание!) отпустить на свободу Огюста Бланки. Тьер отказал. К Тьеру обратился с просьбой о помиловании Огюста Бланки сам пленённый архиепископ: он понимал, что его жизнь зависит от этого, и прямо просил Тьера о милосердии к Бланки и тем самым о спасении своей жизни. Тьер отказал. Он написал архиепископу в ответ крайне холодное письмо, в котором выразил сожаление о том, что не имеет возможности помиловать Бланки, – и Тьер отлично знал, что тем самым приговорил архиепископа.
Как выразился Маркс в своей работе «Гражданская война во Франции», Тьер «опасался дать коммуне голову». Когда письмо Тьера зачитали Бланки, читавший письмо коммунар заметил: «У Тьера очень маленькое сердце». «У него нет сердца», – ответил архиепископ, обречённый этими людьми, но прежде всего Тьером, на казнь. Сегодня трудно оценить это действие адекватно; несомненно, казнь архиепископа была преступлением; несомненно, это развязало руки версальцам для свирепых казней. Но, впрочем, нет сомнений, что казни были бы в любом случае. И что говорить об одной смерти, когда в те дни счёт шёл уже на многие тысячи! Некоторые заложники – архиепископ попал в их число – были казнены в тот момент, когда правительственные войска вошли в Париж и уже начались массовые расстрелы коммунаров. Сегодня, глядя издалека, трудно оценить меру этой ошибки. Во всяком случае, прокурор коммуны Риго, студент юриспруденции (ему было 24 года, когда его избрали генеральным прокурором коммуны), взял вину на себя. Когда по городу шли расстрелы, он облачился в официальный мундир коммуны (хотя обычно был одет затрапезно) и торжественно вышел к версальским войскам. «Вы кто?» – «Генеральный прокурор Парижской коммуны».
Едва договорил, ему прострелили голову.
Как в самом начале коммуны, так и в конце её существования, переговоры с правительством ничего не дали. С трудящимися никто не желал разговаривать. И Бисмарк, и Тьер, и все международные наблюдатели вынесли один вердикт – уничтожить.
Их всех убили в те дни – французов убивали французы, убивали версальские гвардейцы, то есть гвардия Тьера; прусские войска Бисмарка не приняли участия в бойне; саксонский батальон даже пропускал бегущих, дал уцелеть некоторым женщинам и детям. Но французские гвардейцы догоняли, находили и убивали всех.
Испанская революция 1936–1938 годов повторила судьбу Парижской коммуны едва ли не в деталях, включая ошибки и жестокости последних месяцев/часов перед падением и обречённости усилия. Коммунары ухитрились (не сумели, не имели вкуса к этому, думали о другом) не воспользоваться плодами своей недолгой победы. Они не обогатились, не отложили средства в заграничные банки, не отстроили дач, не приобрели дорогого гардероба. Ничего для себя – точно фанатичные советские комиссары 20-го года, которых в 30-е уже сменили прагматичные и алчные работники особых отделов.
Поэт Коржавин, когда писал про обречённую романтику «комиссаров 20-го года», нашёл такие слова:
Вы легко побеждали, но всё же
Оставались всегда ни при чём.
Лишь в Мадриде встречали похожих,
Потому что он был обречён.
Добавим: а ещё до Мадрида таких можно было увидеть в Париже 1871 года. Горожане не присвоили себе ничего, кроме собственной судьбы. Тех, кого не расстреляли, грузили на понтоны, свозили на суда, отправившие узников погибать в Новую Каледонию.
 Юные коммунары, погибшие во время осады Парижа. 1871 год
Юные коммунары, погибшие во время осады Парижа. 1871 год
К истории этой недолгой утопии остаётся добавить немногое.
Деятели культуры (даже если считают себя гуманистами) всегда льнут к сильным; симпатии к освободительным движениям претерпели показательную мутацию – за столетие от Великой французской революции. С буржуазными переменами солидаризировались охотно; от пролетарских требований приходили в ужас. Революцию 1830 года поддержали все вольнолюбивые творцы; к революции 1848 года сохранили некоторое внимание (вот, например, Домье баррикадам сострадает, а он же наш друг), но к восставшим благоволили немногие. В те годы Готье, Дюма-сын, Гонкуры и т.д. отвергли даже мысль о солидарности с революцией. Но то ещё были цветочки, всё оставалось в рамках политических демонстраций и традиционных для Парижа (см. события 1968 года) баррикадных противостояний. Всегда есть спасительная мысль, что восстание обернётся Фрондой, а фрондёры, как показывает история времён Конде и Мазарини, всегда договорятся с королём.
Но вот пролетарская коммуна Парижа вызвала уже прямой гнев интеллигенции. К версальцам примкнули все творцы поголовно. Под письмами, требующими расправы над коммунарами, подписались: Леконт де Лилль, Теофиль Готье, Альфонс Доде, Эдмон и Жюль Гонкуры, Эмиль Золя (автор «Жерминаля»), Эрнест Ренан («Жизнь Иисуса»), Ипполит Тэн, Анатоль Франс («Боги жаждут»), Гюстав Флобер («Саламбо»). Ни единый импрессионист, певец Больших бульваров и кафе под сенью лип, не удостоил даже и мазком, даже единым штрихом память расстрелянных коммунаров. Эдуард Мане, который написал героический холст (подражая «Расстрелу» Гойи) «Расстрел императора Максимилиана», не сподобился создать схожее полотно в адрес казнённых у стены кладбища Пер-Лашез. Надобно заметить, что Гойя (коим вдохновлялся Мане) писал расстрел испанских повстанцев Мадрида, восставших против Наполеона, а Мане в «Расстреле императора Максимилиана» увековечил смерть марионетки Луи Наполеона, сатрапа, посланного управлять Мексикой и свергнутого национальным движением. Простая разница между художниками состоит в том, что Гойя писал, чтобы прославить борьбу с колониализмом и империализмом, а Мане использовал приёмы Гойи, чтобы прославить колониализм и империализм. Мудрено было ожидать, что такие творцы будут сочувствовать коммунарам.
Лишь Золя и Франс позже нашли в себе мужество пересмотреть взгляды и устыдиться одобрения расстрелов. А вот что писал гуманный Гюстав Флобер, это надо знать и помнить: «Я считаю, что следовало бы сослать на галеры всю коммуну и заставить этих кровожадных болванов с цепью на шее, как простых каторжников, разбирать развалины Парижа. Но сие, видите ли, ранило бы чувство человечности! Можно быть ласковыми с бешеными псами, но только не с теми, которые кусаются». Гнев творческой интеллигенции распространялся и на художника Курбе, примкнувшего к коммунарам.
«Мне повторять вам, сытым надоело, что опекать народ - прямое ваше дело» - Виктор Гюго
Гюстав Флобер был автором примечательного афоризма, под которым бы могли подписаться практически все творцы всех времён и народов, за редчайшим исключением: «Поделить своё существование на две части: жить как буржуа и мыслить как полубог». Показательно, что творец в данной сентенции даже не старается узнать, что содержится в мыслях у Бога, который определённо заповедовал сострадать малым сим, а вот полубог таких мыслей иметь не может. Приветственные отклики на коммуну у Рембо и Верлена утонули в едином крике всех интеллектуалов Парижа: уничтожить!
«Зверинец», «варвары», «дикари» – это были самые частые эпитеты. Голову художника Курбе (ставшего комиссаром коммуны по культуре) требовали буквально.
Курбе был едва ли не единственным среди интеллектуалов Парижа, кто принял участие в работе коммуны (потом расплатившись заключением в тюрьму Консьержери). Впрочем, из его картин «Похороны в Орнане» и «Дробильщики камней» можно было заключить, как он себя поведёт. У меня нет никаких сомнений, что, окажись Ван Гог в Париже двадцатью годами раньше (он приехал в 1886 году), художник бы примкнул к коммуне. Во всяком случае, он пытался сходную коммуну построить в Боринаже, когда был проповедником, и мечтал создать в Арле коммуну тружеников.
Парижская коммуна возникла закономерно, как развитие долго длящейся европейской мысли о вольном городе – утопии, сформулированной в сочинениях Бержерака и Кампанеллы, зафиксированной историческими хрониками Средневековья. Эту утопию, однако, не придумали социалисты. Они лишь заметили её существование. У этой утопии нет автора, помимо христианства, обратившегося, как нам рассказал Матфей, к «труждающимся и обременённым».
Эта вечная европейская утопия, этот вирус свободы, бродящий в крови Европы, прорывается на поверхность истории время от времени – и тогда государствам приходится вспомнить, что это они, государства, – понятия временные, а вольный город и свобода гражданина – понятия вечные.
Утопия свободного развития труженика пишется каждый день, мы даже не замечаем, как эта вечная книга растёт в объёме. В хронику сопротивления насилию вписывают новые и новые страницы. С книгой всё труднее спорить. Однажды её слово станет неоспоримым.