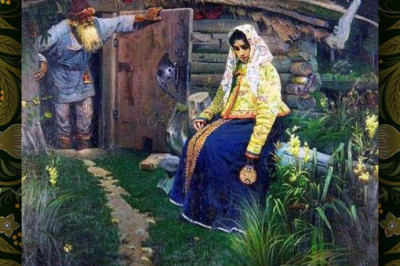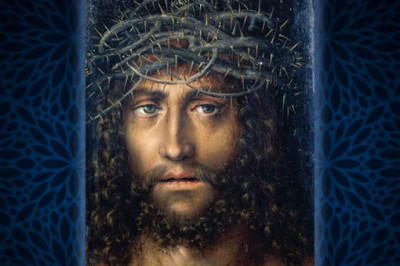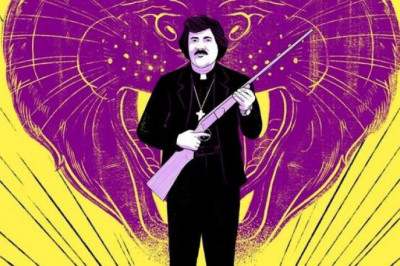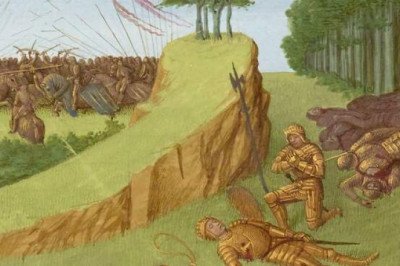Если придворное искусство лживо, то как может ложь принести пользу? Искусство рождается придворным или искусство становится придворным? На этот вопрос ответить столь же сложно, как на вопрос: человек становится льстецом, будучи изначально правдивым, или угодничество – это изначальная характеристика? Таким образом, мы подходим к метафизическому вопросу: добро и красота – это основополагающие категории, а зло и уродство – их искажение? Или же зло и добро, красота и уродство равноправны?
Эстетика, наука о прекрасном, исходит из того, что красота и правда (а искусство существует как воплощение того и другого, сколь бы широко ни трактовать понятие «прекрасное») – это изначальные субстанции, а уродство и неправда – их искажение; уродство и ложь – это не самодостаточные, но производные величины. Ведь для того, чтобы соврать, надо знать правду, не так ли? Чтобы нечто признать уродливым, надо иметь представление о красоте. Если так, если неправда вторична, то требуется признать, что «придворное искусство» есть искажение искусства сущностного.
Значит, для того, чтобы искусство стало «придворным», требуется, чтобы сначала появилось настоящее, честное искусство, которое существует не для двора, а само по себе. Затем искусство искажается под влиянием расчёта и моды. Надо допустить, что художника искушают властные и авторитетные люди, заставляя его изменять самому себе? Градации неправды неисчислимы. Не обязательно писать славословящую Сталина пьесу «Батум» (как то сделал Булгаков), не обязательно открыто и вульгарно льстить. Существует пример Маяковского: пролетарский поэт не врал никогда, искренне верил в революцию, но, вынуждаемый обстоятельствами, стал писать агитационные строчки о явлениях, о которых представления не имел. Иными словами, стал врать. «Как вас могло занести под своды таких богаделен на искреннем вашем пути?» – написал ему Пастернак. Однако занесло. Изначально Маяковский был болезненно правдив, но ситуативно стал врать. Вряд ли продукция Моссельпрома была лучшей в мире, тут поэт лукавил; а что касается точности характеристик противников в условиях Гражданской войны и террора, то здесь поэт многократно солгал. Именно это противоречие между изначальным, сущностным искусством и искусством служебным (то есть придворным) и привело Маяковского к самоубийству. Самоубийство Маяковского и самоубийство Фадеева, председателя правления Союза писателей, члена ЦК, вынужденного по должности участвовать в репрессиях, вызваны разными по степени тяжести проступками. Фадеев, в качестве придворного автора, стал соучастником преступлений, Маяковский был не способен на насилие. Но проходят их самоубийства по одному ведомству: художник ощущает разлад между сущностным (прекрасным) и искажённым (уродливым). Поскольку искусство по определению выражает сущностное, а не преходящее, то всякое служебное использование сущностного неизбежно приводит к преступлению. Использовать сущностное – это и значит совершить преступление.
Значит, вправе мы спросить: всякое использование искусства властью – преступление? А как же шумерское, микенское, вавилонское, египетское, древнегреческое и древнеримское искусство, которое ничего иного не делало, как только украшало дворцы и храмы, радовало глаз власти, воспевало величие?
 Эрехтейон. Памятник древнегреческой архитектуры, один из главных храмов древних Афин, расположенный на Акрополе к северу от Парфенона. Постройка датируется 421-406 годами до н. э.
Эрехтейон. Памятник древнегреческой архитектуры, один из главных храмов древних Афин, расположенный на Акрополе к северу от Парфенона. Постройка датируется 421-406 годами до н. э.
Феномен дохристианского искусства Европы состоит в том, что искусство не знало нравственного начала, в своём, почти природном величии искусство Египта не отличает добра от зла и правды от лжи. Пирамиды Египта, вавилонские колоссы, сфинксы и властелины Междуречья, равно как и идолы африканских племён, не добры и не злы, они могущественны. Практически теми же, наднравственными категориями – мощью, смелостью и т.п. – поражают зрителя греческие и римские произведения. Добр Геракл или зол, честен Меркурий или нет, нравственна Венера или распутна? Эти характеристики языческим богам раздавали задним числом художники Ренессанса; но само искусство Древних Греции и Рима не знает нравственных дефиниций. Монументальное искусство дохристианской эпохи не может лгать по той элементарной причине, что понятие «правда» в искусстве ещё не постулировано. Вот художник Налбандян – он врёт; Булгаков в «Батуме» лукавит.
Христианская доктрина, заставившая искусство соизмерять своё высказывание с образом Спасителя, включила понятие «истина» в художественный строй. «Что есть истина?» – спрашивает язычник Пилат, олицетворение власти, которая стоит по римскому обычаю над добром и злом, спрашивает у Христа, который знает, что истина существует и что истина – одна. Знают это и все художники, работавшие после Рождества Христова. Однако – и это существенный пункт – искусство, как правило, обслуживает только власть, ведь только у власти есть избыточные деньги для покупки искусства. В истории, таким образом, возникает трагическое противоречие.
Надо допустить, что есть обыкновенные, непридворные люди, которым нравится искусство нельстивое и немодное, но параллельно с ними существуют придворные, те, которые требуют искусства льстивого и лживого. Сложилось так, что именно эти придворные, те самые, кто заинтересован в искажении сущностного, – именно они и инициируют искусство. Стало быть, искусство, которое обязано воплощать гуманность и правду, обязано своим существованием лжи?
 Потолок Сикстинской капеллы
Потолок Сикстинской капеллы
Мы все знаем трагические судьбы Ван Гога, Гогена, Модильяни, Кафки, Мандельштама – тех, кто органически не мог угождать; но невозможно отрицать, что их честное творчество стало предметом индустрии модного искусства, тиражируется в миллионах копий и подражаний. Индустрия придворного искусства (моды, коммерции, обслуживания вкусов кружка) перемалывает и использует всё.
Следующий вопрос совсем странно звучит: если «придворное искусство» – это всегда дань моде и одновременно искажение правды, значит ли это, что общество (в лице властей) сознательно хочет для самого себя зла и неправды?
Как люди становятся накрашенными куклами? И как обозначить, кому именно льстят художники, изменившие искусству: буквально куклам или чему-то иному, механизму, который движет куклами?
Куклы меняются часто: ломают друг друга, но принцип кукольности остаётся. Значит ли это, что, соблазнённые властью, художники думают, что обслуживают кукол (Сталина, Филиппа II, Наполеона), а на деле обслуживают некий мертвенный принцип? Этот мертвенный принцип есть не что иное, как собственно механизм функционирования искусства. Это понятно исторически: во все века искусство является продуктом не необходимым, а избыточным, украшающим жизнь, а не обеспечивающим её. Кто может себе позволить украшение? У кого есть избыток средств? Таким образом, мотором искусства становится власть (власть рынка или диктатора).
Однако христианское гуманистическое искусство поставило перед художником вопрос: если сущностное искусство – это правда, то должна ли правда приспособиться к мертвенному принципу власти? Может ли искусство украшать? Может ли идея стать идеологией? Ван Гог и Гоген ответили отрицательно, но многие тысячи мастеров приняли динарий кесаря. Распространённым оправданием среди художников, обслуживающих власть и пишущих заказные льстивые полотна, является заявление: вот, мол, и Тициан с Тинторетто, Веласкес с Микеланджело делали то же самое, мы, дескать, идём по стопам великих. И это на первый взгляд соответствует действительности. Конечно, и Веласкес, и Микеланджело получали заказы от власти. Всем вроде бы известно, кто был придворным художником: вот имеется Налбандян (рисовавший членов Политбюро), вот есть Никас Сафронов (рисующий губернаторов России и президентов сопредельных России республик), а также Тициан (писавший портрет Карла V), Веласкес (писавший семью Филиппа IV), Рубенс (написавший галерею картин на брак Генриха IV и Марии Медичи: как невеста взошла на корабль, везущий её к будущему мужу, как сошла с корабля, как венчалась и т.п.), Ван Дейк (нарисовавший весь английский двор), Гольбейн (сделавший то же самое веком раньше), Микеланджело (расписавший Сикстинскую капеллу) – они все выполняли заказ.
 Диего Веласкес Менины. 1656
Диего Веласкес Менины. 1656
Тициан, Рубенс и Веласкес, конечно, делали кое-что ещё помимо заказных портретов; так ведь и советский мастер Налбандян писал порой речные заводи, упражнял руку. Но заказ составлял содержание основной работы. Эти художники сознательно служили, но служили чему? Они оставляли потомкам свидетельства, но свидетельства чего? Что именно они обслуживали, эти льстецы-художники? Писали историю генеалогического древа, изображали незыблемость власти? Ещё проще спросить так: портрет властелина – это портрет лучшего из людей, пример для остальных? Или спросить так: художник, изображая короля, рисовал образец человека?
Немногие художники подобно Жану Фуко, французскому ренессансному мастеру, сумели нарисовать именно накрашенных заводных кукол (см. портрет Агнессы Сорель, любовницы императора). Вот курфюрст Саксонский, изображённый Кранахом, – герой картины столь жирен и вульгарен (в скобках замечу, что курфюрст был образован и порой деликатен), что примером служить не может. Вот император Максимилиан I кисти Дюрера – черты лица ужасающие, впору детей пугать. Глядя на эти картины, буквально наблюдаешь процесс того, как сущностное искусство борется с искажением, как потребность свидетельствовать правду прорывается сквозь лаковую лесть.
Известны из ряда вон выходящие случаи: «Менины» кисти Веласкеса и «Портрет семьи Карла IV» кисти Гойи – в обоих случаях эффект прославления королевского величия сомнителен. Веласкес написал метафизическую картину, где и король-то не изображён, он появляется лишь в далёком зеркале. Абсолютная власть оказывается не абсолютной: власть дробится в зеркальных изображениях и не представляет из себя никакой силы – по сравнению с величественной фигурой художника, воплощающего суд и искусство. Картина «Менины» обсуждается философами и историками культуры уже двести лет подряд – все тщатся понять, почему изображён двор, в котором нет короля? Но ещё непонятнее, когда король нарисован: вот Гойя нарисовал выстроившихся в ряд членов королевской семьи, они послушно встали, как на пионерской линейке, – парад уродов, чванные, карикатурные лица кукольного театра. Гробы повапленные (слово «повапленные» обозначает раскрашенные, это евангельская метафора очень точно характеризует придворное искусство), изображённые Гойей, Веласкесом и Фуко, демонстрируют нам живучесть идеи, униженной идеологией. Идея всегда обнаружит себя, если имеется.
Скажем, венецианский живописец Тинторетто писал портреты дожей Венеции, написал десятки портретов. Он что, угождал тщеславию дожей? В очень малой степени: дож Венеции – персонаж, подчинённый регламенту в большей степени, нежели купец или нобиль; дож не имеет права покидать дворца, гуляет в тесном внутреннем дворике, как заключённый, малейшее нарушение – его осудит Совет десяти и казнит, как это случилось с Марино Фальеро. Так кому же угождает Тинторетто? Совет десяти – это сменяемый, выборный орган, там некому персонально угождать. Идее республики? Но республика, по законодательству не имеющая двора, не нуждается в такого рода лести. Утешение картонной фигуре дожа? Вехи быстротекущей власти? Дайте убедительный ответ – и, возможно, вы поймёте, что такое «придворная живопись». Тинторетто, скорей всего, служил просто идее живописи, а дожи Венеции были для него тем же, чем для Сезанна являлись яблоки и бутылки.
Микеланджело получил заказ от папы Юлия II на роспись Сикстинской капеллы – никакая идеологическая установка не могла бы помешать Микеланджело нарисовать именно то, что он хочет. Сущностное искусство Микеланджело (как и Веласкеса, как и Гойи) невозможно было исказить, цельность и сила ядра таковы, что оболочка не властна. Единение христианской веры с античной парадигмой становится содержанием росписи капеллы, и, как бы это ни было далеко от установок папы, сделать с этим он уже ничего не смог.
Феномен «придворной живописи» доказывает нам, что сущностное гуманистическое искусство, единожды явившись на свет, – уже непобедимо. Ни механизмы рынка, ни принуждения власти, ни диктат моды над гуманистическим искусством не властны. Ван Гог победит, и Микеланджело нарисует по-своему, а Гойя напишет приговор власти. Что же касается идеологии, моды и приказа, то заветом всякого большого художника останутся слова Данте: «Следуй своей дорогой, и пусть другие говорят что им вздумается».