
Так возникли «Персидские письма» Шарля Монтескье и «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта и «Гражданин мира, или Письма китайского философа» Голдсмита. Монтескье не был в Персии, Голдсмит не был в Китае, а страны гуигнгнмов вообще не существует, но писали ведь не о Китае, не о Персии.
Монтескье писал о республиканских идеалах, сравнивая персидский султанат и европейскую монархию, – ни султанат, ни монархия симпатии персонажей не вызывают, а вот республика манит. Чуть позже Монтескье пишет работу «о духе законов», в которой обозначает радикальное отличие республиканских законов от монархических и деспотических.
Условием демократической фазы республики (бывают и аристократические республики) Монтескье называет принцип добродетели, возведённый в закон. При монархии и тем более при деспотизме добродетель только мешает.
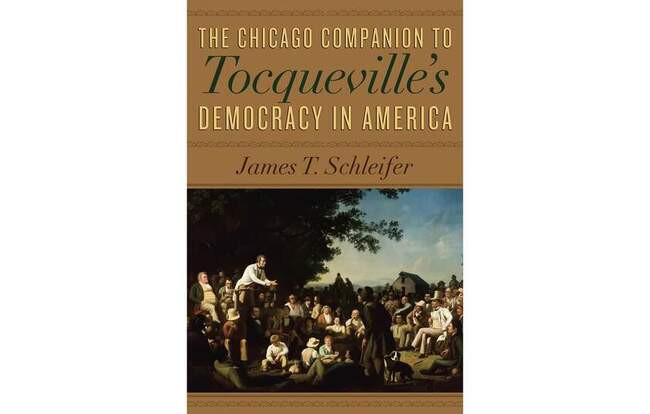
А вот Токвиль в Америке действительно был. Алексис де Токвиль поехал в Америку специально, чтобы понять, можно ли построить такую демократию, чтобы не разрушалась со временем, как это случилось с Французской республикой.
Книга Токвиля «Демократия в Америке» считается классической социологической работой, учреждена премия по социологии имени Токвиля, но одновременно книга Токвиля является образцом утопического жанра и стоит в одном ряду с Монтескье и Голдсмитом, с Мором и Кампанеллой. Незнакомые европейцу, далёкие «американцы», описанные Токвилем, так же условны, как жители острова Утопия и обитатели Города Солнца. Их привычки, обычаи и законы, их образ жизни, каковые автор будто бы наблюдал в Америке (Токвиль действительно жил в Америке, но кто же это знает из читателей?), производят впечатление художественной фантазии.
Исследование чужого общества придирчиво: вот так американцы относятся к деньгам, так проводят выборы, так у них устроен парламент, – но через это исследование Токвиль анализирует общество Франции.
Вариантов общественного устройства не так много: демократия – аристократия – монархия.
Или их дурные тени: охлократия – олигархия – тирания.
Охлократия – это тень демократии: власть толпы наступает, когда граждане подменяют законотворчество криком большинства и пассионарность считают аргументом.
Олигархия – это тень аристократии: такой строй возникает, когда правители соединяют богатство и привилегии власти, в такой стране финансы ловких обретают статус закона справедливых.
Тирания – это чёрная тень монархии: тираном становится правитель, опьянённый вседозволенностью, тиран не руководит обществом, но диктует прихоти.
И во все века, во всех странах происходило так, что общественный договор легко терял контрактные свойства, перетекал в свою уродливую тень. Грань между демократией и охлократией переступали легко, а монархи почти неизбежно превращались в тиранов.
 "Суд над Людовиком XVI в Конвенте 26 декабря 1792 года". Гравюра Доменико Пеллегрини
"Суд над Людовиком XVI в Конвенте 26 декабря 1792 года". Гравюра Доменико Пеллегрини
А потом – о, потом открывалось широкое поле для утопий! Что противопоставить тирании? Демократию? Аристократию? При этом никакой гарантии, что означенные формы организации общества не превратятся в свои тени, что из демократии не выползет олигархия, а затем и вновь придёт тирания. Но – мечтали!
Мечты, впрочем, ограниченны: нет иных способов организации общества, не придумали – либо то, либо другое, либо третье; нет четвёртого способа.
Разные эпохи и разные культуры предлагали всё новые транскрипции для обозначения Советов народных депутатов: Советы старейшин, Совет десяти и Совет сорока в Венецианской республике, тинг, вече, рада, парламент – названий тысячи, суть одна. Так и власть монарха именуют то ханством, то султанатом, то королевством, но ведь конструкция неизменна. Конечно, культурные, географические и временные особенности преподносят повелителя по-разному, но власть одного над многими сохраняет бесчеловечный алгоритм.
Свергают монарха, провозглашают власть народа, постепенно среди толпы выделяются вожаки, они богатеют, обрастают привилегиями, орденами и личными гвардиями – и вот снова появляется тирания.
В этом заколдованном круге вращается история человечества, мучительно ищет выход. Белка в колесе – грустная метафора, но, увы, точная: толпа рвётся вперёд, упорно перебирает лапками, карабкаясь по неумолимо крутящемуся колесу. Даёшь демократию! Даёшь свободу! Ошиблись со свободой – даёшь опять монархию! Все проекты, все утопии, все революции и все войны затеваются ради тех изменений, которые, в сущности, известны всем, и крайне давно известны.
И даже известно, что изменения эти – временны: всё равно демократия превратится в олигархию, а олигархия мутирует в тиранию, – и этот запрограммированный цикл перемен перечеркнёт любую революционную утопию. Но фанатичный трибун призывает к переменам в наивной надежде, что отныне, вот с этого самого момента, возникнет небывалая, не поддающаяся коррозии демократия, возникнет такая аристократия, которая не превратится во власть жадных и жестоких. И общество продолжает бег, и колесо истории вращается.
Разительным примером такого долгого бега по кругу является становление республиканского строя во Франции. Сейчас общество Франции организовано в так называемую Пятую республику, но четыре предыдущие республики прекратили своё существование в силу того, что перешли в авторитарное правление. Любопытно проследить хронологию бесплодных, но отчаянных попыток.
 "Альфонс де Ламартин отвергает красный флаг 25 февраля 1848 года". Феликс Филиппо
"Альфонс де Ламартин отвергает красный флаг 25 февраля 1848 года". Феликс Филиппо
Первая республика, возникнув в 1792 году в ходе французской революции, закончилась в 1804 году, когда Наполеон Бонапарт, первый консул Французской республики, провозгласил себя императором. Республика просуществовала недолго (всего 12 лет, из которых два года были годами террора), и Франция вновь стала монархической, причём на целых полвека. После Ватерлоо, когда Наполеон был сослан на остров Св. Елены, к власти вернулись Бурбоны, потомки Генриха IV.
Опыт республики, таким образом, оказался мизерным. Вплоть до того момента, когда король Луи Филипп I бежал из страны в 1848-м – во Франции опять утвердилась королевская власть. Революция 1848-го провозгласила республику, но на этот раз республиканское правление длилось и вовсе недолго, четыре года, до 1852 года, в котором президент Луи Наполеон провозгласил себя императором Наполеоном III.
Любопытно здесь то, что литература Франции, искусство Франции, философия, журналистика, пафос риторики, дебаты в кафе и на площадях оставались республиканскими; Домье, Гюго, Бальзак и Делакруа писали так, словно Франции онтологически присущ именно республиканский строй, Сезанн и Золя были республиканцами, Ван Гог не мыслил себя вне республиканских идеалов, но в истории французского общества республика существовала всего 12 лет, а потом ещё только четыре года.
В промежутке между этими островками времени Алексис де Токвиль пишет свои гимны демократии, но ничто не предвещает демократии. Откуда вообще бралась уверенность, что свобода, равенство и братство нужны людям? Все эти поэты и трибуны жили и творили при Бурбонах или при Наполеоне III, а республика присутствовали в их сознании как бы авансом.
Алексис де Токвиль – он вообще был правнуком человека (Мальзерб), защищавшего свергнутого короля Людовика XVI перед Конвентом – и за эту защиту заплатившего жизнью. Внук казнённого республиканцами – во время правления Бурбонов, воцарившихся на руинах французской демократии, – едет в Америку, чтобы написать там гимн демократии на основе американского опыта; есть от чего прийти в изумление.
Республика упорно колотится в запертые двери феодальных замков Франции. Третья республика возникла в ходе франко-прусской войны в 1870 году, утвердилась на руинах Парижской коммуны, в связи с падением Наполеона III, и просуществовала эта Третья республика рекордных 70 лет – вплоть до падения Франции в 1940 году и до наступления режима генерала Петена, то есть режима Виши. Петен был героем Первой мировой, то есть генералом правительства Клемансо, но сколь быстро отказался от идеалов республики.
Правительство Виши пало – победа над фашизмом, суд над Петеном, и опять возникает республика, теперь уже с номером четыре! Четвёртая республика, возникшая после войны, существовала только 12 лет, и уже в 1958-м была реформирована де Голлем в ходе алжирской войны, так как генералу-президенту было мало власти. В годы колониальных войн республиканская власть неудобна. Появилась так называемая президентская республика, Пятая республика, в которой Франция существует и поныне, в которой авторитарная власть причудливо сочетается с парламентской.
Здесь уместно привести развёрнутую цитату из Алексиса де Токвиля, слова, написанные им ещё в XIX веке, обозначающие, однако, проблему, с которой общество продолжает сталкиваться в XX веке и в XXI. Токвиль, пришедший к выводу о неизбежности повсеместной демократии, несмотря на то что, как было выше сказано, он вырос при Бурбонах, сменивших республику, видел сложность именно в чередовании способов управления, – эти перемены, по Токвилю, не отражали той реальной сложности, классовой, сословной, национальной, интернациональной, с которой сталкивалось живое общество.
Демократия, по Токвилю, неизбежно наступит повсеместно просто в силу того, что значение среднего класса вырастает, но опасность административного/управленческого банального решения неизбежно встанет на пути демократии.
Дадим слово самому Токвилю.
«Поскольку было известно только два способа управления, то, отказавшись от одного из них, тотчас же приняли другой. Странно, что в таком просвещённом обществе, где государственная администрация довольно долго играла значительную роль, никому не пришло в голову объединить обе системы власти и различать, не отделяя, исполнительную власть и власть контролирующую и предписывающую. Несмотря на кажущуюся простоту, эта идея возникла не сразу, а лишь в следующем веке.
Она представляет собой, так сказать, единственное важное открытие в области государственного управления, характерного для нашей страны. Мы увидим, к каким практическим последствиям приведёт образ действий лидеров национального Конвента, когда они, перенося на политику административные привычки и традиции Старого порядка, использовали систему, которой ранее следовали провинциальные собрания и муниципалитеты городов. Мы увидим также, как то, что до сих пор являло собой причину лишь отдельных затруднений в делах, внезапно породило Террор».
Токвиль различает понятия администрирования и политики. Политика – это отношения меж людьми (странами, партиями), администрирование – это контроль данного типа отношений. Форма администрирования, пишет Токвиль, заимствованная у былого правления, часто накладывается на новую политику – и сочетание порождает социальное бедствие.
Отказаться от привычной формы управления, если таковая сложилась объективно: география, демография, климат, национальный характер, – сложно; в современной нам действительности мы наблюдаем, как «прогрессивные» институты управляются методами прошлого, как свободу насаждают насильственным порядком. Так происходит просто потому, что внедрить демократию легче сверху приказом, нежели снизу – инициативой тружеников.
Казарменное внедрение свободы ещё никого свободным не сделало, нельзя заставить быть гражданином. Не столь давно в российской истории дебатировались два полярных проекта приватизации – снизу, путём приватизации артелей, хозяйственной техники и т.п., и сверху, путём приватизации заводов и предприятий. Легко увидеть contradiction in adjecto (внутреннее противоречие. – Прим. ред.) в насаждаемой приватизации: частное не может утверждаться приказом, приказ начальства уничтожает статус частного обладания.
Согласно Токвилю, результаты феодального администрирования уничтожают смысл политики демократии. И этот процесс люди постоянно наблюдают в казарменных демократиях. Токвиль даже террор якобинцев выводит из данного противоречия.
«Рабское положение, отупляя раба, ведет в то же время к деградации хозяина» - Алексис де Токвиль
Крушение французской демократии – её недолгий век и вторичное воцарение монархии – побудило Токвиля искать рецепты демократии в Америке; он предпринял путешествие в Америку (формальный предлог: чтобы познакомиться с пенитенциарной системой) и написал уникальное исследование американской демократии, ставшее своего рода учебником для демократий европейских.
И в этом историческом парадоксе (Франция, родина самой знаменитой революции третьего сословия, становится ученицей американской демократии) заключена модель развития западного мира.
Токвиль в своей книге говорит о принципе федерализации Америки, то есть о разделении страны на политически независимые субъекты – о структуре, которая позволяет избегнуть феодального, централизованного принципа администрирования, губительного для исполнения демократических и республиканских законов. Именно феодальное администрирование, считает Токвиль, убило французскую республику и предало власть новой монархии – естественным образом.
Следовательно, для демократии критично важен федерализм, так считает Токвиль. За этим рецептом он и едет в Америку.
 "Республиканский алтарь". Ф. Сикар. 1913 год
"Республиканский алтарь". Ф. Сикар. 1913 год
Одновременно с федерализмом и политической независимостью (разъединённостью) Штатов Токвиль отмечает склонность американцев к ассоциациям и союзам, то есть к всякого рода объединениям граждан, образующимся помимо и вне политики, – к таким объединениям, которые создают гражданское самосознание и крепость личной обороны. Политическая федеративность, но гражданская ассоциация – вот рецепты и принципы, которые Токвиль разглядел в Америке и рекомендовал Европе.
Объединиться как гражданам и размежеваться как административным субъектам – вот так демократия убережётся от того, что погубило её в античности (см. Цезарь) и во время Французской революции (см. Наполеон Бонапарт).
Демократия наступает неотвратимо, демократия может использовать революцию как инструмент – это базовое утверждение Токвиль многократно уточняет: в отличие от классической марксистской и (тем более) ленинской теории, Токвиль считает, что революции не связаны с «обострением нужды и бедствий угнетённых классов». Напротив того, революции происходят (по Токвилю) тогда, когда старый порядок достиг расцвета: в точке акме происходит скачок. Токвиль как раз считал, что чрезмерное угнетение, низведение человека до положения раба делает революцию невозможной, ведь революция – это движение к прогрессу и оно осуществляется интеллектуально развитыми людьми.
Революция – не бедствие, но неизбежность при переходе к демократии, и Токвиль ссылается на американскую войну за независимость.
Любопытно, что в утопии «Демократия в Америке» (а рассматривать данное произведение как утопию – правильно, ведь книга эта носит характер дидактический, как и произведение Мора) Америка выступает такой далёкой и неизвестной землёй, дальним примером, подобно «Государствам Луны» де Бержерака или империи инков.
Учиться демократии в Америке, взять уроки свободы тем, кто сам вчера был учителем человечества, – что может быть оскорбительнее для европейского сознания?
Практически одновременно с «Демократией в Америке» пишется книга «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» Чарльза Диккенса, которую я бы квалифицировал как антиутопию и, особенно важно, антиамериканскую антиутопию.
Чарльз Диккенс был убеждённым прогрессистом, он был уверен, что механизация труда и технический прогресс улучшат нравы и устранят произвол на мануфактурах и угнетение рабочего класса. Но прогрессистом он был умеренным – полагал, что прелести патриархальной английской жизни отлично уживутся с внедрением новых машин. Диккенс идеалом видел старую Англию с новыми машинами, противоречий в таком сочетании он не находил.
Любой герой Диккенса попадает в водоворот нового, чтобы ещё сильнее полюбить старое. Всякая любовная коллизия в романах Диккенса, пройдя грозы испытаний, оказывается в итоге в буколическом раю провинциальной Британии, под вязами и с пинтой пива в руках, а изобретения паровых двигателей, случившиеся попутно, спасают угнетённых рабочих от 14-часового рабочего дня.
Среди искушений, которые патриархальный Диккенс не выносил, было искушение равенством Америки, искушение демократией, космополитизмом и заокеанской республикой. В лице Чарльза Диккенса Старый Свет отказался от американских искушений – и роман «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» написан, чтобы показать, как проект Америки и обещания равенства оборачиваются тотальным обманом и обычным вымогательством.
Диккенс описывает страну ловкачей и врунов, продающих обещания, не соответствующие их жалкой и бедной реальности. Герои едут из Англии в Америку, чтобы жить в городе под манящим названием Эдем (ср. «Город Солнца» или «Иной свет, или Государства и империи Луны»), а оказываются на малярийном болоте, где вместо обещанных хором стоят картонные домики. Утопии нет, равенства не существует, прожекты демократии фальшивы. Нетрудно увидеть в едкой пародии Диккенса ответ на книгу Алексиса де Токвиля, которую Диккенс знал понаслышке.
Как и Токвиль, Диккенс посетил Америку, но увидел в Америке прямо противоположное тому, что увидел француз-республиканец. Любопытно, что критика Америки в романе Диккенса нашла понимание в России – так, славянофил Аксаков писал: «На днях прочёл я вторую часть романа Диккенса. Описание Америки очень интересно, хоть и видна национальная ненависть. Как отвратительны Соединённые Штаты, эти гнилые плоды Европы на чужой почве, эти преждевременно перезревшие дети».
То, что увидел в Америке Токвиль, а именно открытую новым идеям страну, ни Диккенсу, ни Аксакову увидеть было не то что не дано, а попросту невозможно. Токвиль отнёсся к Америке как к лабораторному эксперименту: вот, имеется территория без прошлого – история, в которой не содержится наследия феодализма и монархии. Речь здесь не об индейцах (хотя Токвиль пишет и об этом тяжёлом эпизоде американской истории), но речь о том, что культурная матрица Америки до прихода европейских колонистов не содержала ничего такого, что могло бы переформатировать демократическую доктрину в монархию, повернуть демократию к феодализму, деспотизму, монархии.
Важно здесь не то, насколько книга Токвиля соответствует реальному положению дел в Америке (вероятно, не во всём и не вполне), важно иное: Токвиль утверждал возможность построения демократии – при соблюдении определённых условий. Изучая американские законы, Токвиль пришёл к выводу, что демократия возможна в принципе, если соблюдать условия эксперимента.
Соблюдать условия – в Европе, отягощённой клановыми интересами, феодальным наследием, монархической традицией, – непросто. Соблюдать условия эксперимента и одновременно следовать традиции культуры – почти что нереально. Традиция всегда связана с иерархическим сознанием (иными словами, с исторически обусловленным неравенством), а демократию, как утверждает Токвиль, можно создавать лишь в условиях тотального и общего равенства.
В связи с этим как не вспомнить прекраснодушное высказывание Монтескье в его книге «Дух законов»: «Отечество – это равенство». Вот чтобы такое высказывание Монтескье стало реальностью, Токвиль и пишет свою утопию, облечённую в заметки путешественника. Для Диккенса (и Аксакова, разумеется) республиканские идеалы были неактуальны – благо государства они видели совсем в ином.
Здесь существенно то, что и работа Токвиля, и роман Диккенса пишутся в предреволюционной Европе, на пороге знаменательного 1848 года, года европейских революций. Франция, Германия, Венгрия, Италия, Австрия – 1848 год всколыхнул всю традиционную Европу, поставил вопрос о революции и демократии; монархия теряла свои позиции стремительно. Карл Маркс, в предчувствии поворота мировой истории, пишет – именно в те же годы! – пишет свои знаменитые «Экономическо-философские рукописи 1844 года».
Эта короткая работа – как бы набросок «Капитала», в этих рукописях 1844 года Маркс проговаривает любимые тезисы: отделение друг от друга труда, капитала и земельной собственности; разделение обмена и конкуренции; вопрос о стоимости человека и его обесценении и, наконец, вопрос об отчуждённом труде и освобождённом труде.
Таким образом, уже поставлен вопрос о новом качестве сознания. Отвлечёмся от термина «коммунизм» и от революционных призывов, существенно на этом этапе то, что декларирована возможность нового общества – 1848 год пообещал, что угнетение человека человеком, иерархия общества и неравенство – это не навсегда. Спустя двадцать лет (когда и этот многообещающий 1848-й останется в прошлом), в письме к Аврааму Линкольну (практически повторяя пафос Токвиля), Маркс скажет: «Мы шлём поздравления американскому народу в связи с Вашим переизбранием огромным большинством. Если умеренным лозунгом Вашего первого избрания было сопротивление могуществу рабовладельцев, то победный боевой клич Вашего вторичного избрания гласит: смерть рабству! С самого начала титанической схватки в Америке рабочие Европы инстинктивно почувствовали, что судьбы их класса связаны со звёздным флагом. Разве борьба за территории, которая положила начало этой суровой эпопее, не должна была решить, будет ли девственная почва необозримых пространств предоставлена труду переселенца или опозорена поступью надсмотрщика над рабами?»
Утопию Карла Маркса («царство свободы», как он именовал коммунизм) следует рассматривать отдельно, но, разумеется, теория марксизма зарождалась в Европе 1848 года, в Европе, пережившей крушение Французской революции и реставрацию монархии, в Европе, идущей к буржуазной революции и грезящей идеей равенства и демократии. До какой степени европейская мечта об американской демократии соответствовала реальности Америки – иной вопрос.
Надо ещё раз подчеркнуть, что пророчества европейских мыслителей об Америке не всегда соответствовали действительности Америки: европейцы писали о себе самих, смотрясь в Америку, как в далёкое зеркало; но разве в этом приёме можно упрекнуть создателей утопий? Это классический приём, если угодно, это приём иносказания – и надежды свойственны всем утопистам.
В те же годы, человек сугубо антиутопический и антиреспубликанский, Фёдор Тютчев, сочетавший в своей биографии должность дипломата и деятельность поэта, пишет программную статью «Россия и революция», в которой отождествляет понятие «Россия» с понятием «империя» и говорит простую (возможно, и пророческую) вещь: «В настоящее время в Европе только две силы – Россия и революция». Согласно Тютчеву, европейская революция (читай: демократия, равенство и т.п.) есть то, что разрушает традицию Европы, в то время как имперская амбиция России Европу может спасти на краю пропасти.
Разумеется, и отношение к «американской мечте» у Тютчева соответственное; так и Диккенс и Аксаков выражают своё отношение к Америке откровенно. Для Аксакова «гнилые плоды Европы на чужой почве» именно тем и страшны, что не имеют традиционных культурных кодов. Для Токвиля или Маркса именно в отсутствии традиции и состоит преимущество Америки и американских условий утверждения демократии.
Сегодня нам трудно воспринимать эти демократические утопии, забыв о собственном историческом опыте. У нас на глазах рухнула социалистическая казарма, а на её руинах… Впрочем, все знают, что было дальше.
Болезненный, долгий, теперь уже практически двухвековой, спор утопистов и антиутопистов актуализировался снова; было бы лицемерием сказать, что идея демократии сегодня переживает период расцвета. Насколько эта идея живуча, насколько этот идеал притягателен, покажет ближайшее время.
Колесо истории продолжает вращаться, а толпа бежит, перебирает ногами, стараясь выкарабкаться к счастью. И многим кажется, что это возможно, надо лишь быстрее бежать.
























