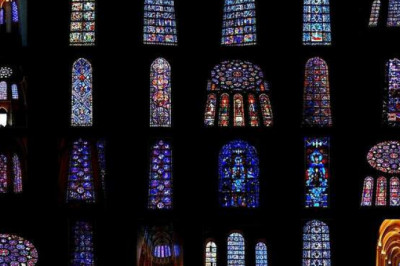Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
В 1963 году философ Ханна Арендт совершает возмутительное непотребство — она отказывает отвечавшему за «окончательное решение еврейского вопроса» казнённому Адольфу Эйхману в звании худшего монстра всех времён. Это производит эффект разорвавшейся бомбы — прогрессивный мир в бешенстве, Арендт критикуют даже друзья. В представлении общественности военный преступник Эйхман — чудовище, сознательно отправившее на гибель миллионы людей. Но Ханна Арендт, присутствовавшая на обвинительном процессе, считает нацистского функционера слишком недалёким и обыкновенным для сверхзлодея. Её скандальное эссе так и называется — «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме».
 В представлении общественности военный преступник Эйхман — чудовище, сознательно отправившее на гибель миллионы людей. У Ханны Арендт особое мнение
В представлении общественности военный преступник Эйхман — чудовище, сознательно отправившее на гибель миллионы людей. У Ханны Арендт особое мнение
Кошмарные злодеяния Адольфа Эйхмана, полагает Арендт, — следствие как раз его заурядности и исполнительности. По её впечатлению, он хотел хорошо делать свою работу — и не важно, в чём она состояла. При таком раскладе целенаправленное уничтожение людей ничем не отличалось бы, скажем, от бухгалтерского учёта или организации логистики на предприятии. Разумеется, всё это никак не снимает с преступника ответственности — зато значительно расширяет поле для неудобных вопросов морального свойства. Ведь если Арендт права в своей оценке, выходит, за ужасы нацизма ответственны не только главные боссы, но и вообще все, кто был облечён властью во время Третьего рейха. А заодно и те, кто исполнял решения этих властей. И не в последнюю очередь те, кто знал или догадывался о незаконности таких решений, но продолжал их выполнять.
В общем, эссе Ханны Арендт обернулось тем ещё скандалом — а ведь она была не первой, кто копнул глубже самого очевидного слоя. Ещё во время суда над Эйхманом, в декабре 61-го, Стэнли Крамер показал миру «Нюрнбергский процесс», грандиозное трёхчасовое полотно, которое без всяких прелюдий задало зрителю главный вопрос — и оно же спустя три часа выдало единственно возможный ответ.
Метод Крамера — Манна
Сегодня фильм Крамера считается одной из лучших юридических драм всех времён — и если на этих словах вас начало клонить в сон, именно вы целевая аудитория «Нюрнбергского процесса». Стэнли Крамер не был новатором своего поколения, в его фильмах едва ли нашлось бы место какому-нибудь необычному для своих лет режиссёрскому приёму; метод Крамера — подробный и обстоятельный рассказ. Он считал, что основным в любой картине должен быть сюжет, а зритель не обязан ломать голову над тем, что и зачем смотрит. Отсюда и творческий почерк режиссёра — предельно чёткий, разборчивый и с чуть заметным уклоном влево. Почерк серьёзного человека, который пришёл рассказать нелёгкую историю. И он, чёрт возьми, это сделает, так что садитесь и слушайте.
 Почерк Крамера — почерк серьёзного человека, который пришёл рассказать нелёгкую историю
Почерк Крамера — почерк серьёзного человека, который пришёл рассказать нелёгкую историю
Видимо, только при таком подходе всё это и могло сработать. На дворе 1961 год — кодекс Хейса постепенно теряет позиции, голливудское кинопроизводство становится либеральнее, народ начинает привыкать к зрелищным постановкам вроде «Бен-Гура» или «Спартака» — и на этом фоне Крамер выпускает трёхчасовой чёрно-белый фильм о суде над нацистскими судьями. Никаких масштабных батальных сцен, ноль спецэффектов — «Нюрнбергский процесс» подчёркнуто камерный и в сравнении с именитыми пеплумами больше напоминает театральную постановку.
Что не мешает ему в последующем претендовать на 11 номинаций Американской киноакадемии. И пусть победа фильму Крамера достаётся только в двух — «Оскар» получают Эбби Манн за лучший адаптированный сценарий и Максимилиан Шелл за лучшую мужскую роль, — «Нюрнбергский процесс», эта тяжеловесная судебная драма, становится настоящей жемчужиной жанра, а вместе с тем одной из самых нестареющих картин, когда-либо появившихся на свет.
Слишком громкое заявление, а? Золотой стандарт юридического кино — допустим, с этим легко согласиться. В конце концов, жанр слишком специфический, далеко не каждый зритель способен оценить такое по достоинству — так что тут вполне можно довериться ценителям и позволить великодушно «Нюрнбергскому процессу» занять своё место в этой узкой нише. Но как быть с его возрастом? 60 лет назад фильмы снимали совсем не так, как сегодня. Сам технологический процесс был другим, и он накладывал вполне конкретные ограничения на всех, занятых в производстве.
 Золотой стандарт юридического кино? Допустим. Но кому интересна сегодня судебная драма, снятая 60 лет назад?
Золотой стандарт юридического кино? Допустим. Но кому интересна сегодня судебная драма, снятая 60 лет назад?
Ответом будет та самая доктрина Стэнли Крамера, по которой каждый фильм просто должен быть интересным, тогда его будут смотреть вообще все и всегда, а не только высоколобые критики да любители жанра в год выхода. «Нюрнбергский процесс» исключительно диалоговое кино, зачастую такие фильмы смотреть нелегко, — но при этом у него всё в порядке с композицией и драматургией. Сценарий Манна и режиссура Крамера ведут зрителя все три часа, ни на секунду не давая ему отвлечься. А чтобы не замыливался глаз, акты перемежаются интерлюдиями — деление очень чёткое и интуитивно ожидаемое. После окончания каждого действия наступает своеобразный антракт — нас перемещают из зала заседаний в другую локацию, где можно позволить себе слегка расслабиться.
Правда, в отличие от театра антракт здесь — часть повествования. Очень многое о героях мы узнаём именно в таких интерлюдиях — и в конечном счёте это влияет на наше отношение к самому процессу. В этом смысле Крамер с Манном не дают зрителям особого выбора — аудиторию практически вынуждают думать в том направлении, которое определили для неё авторы.
Голос разума
Впрочем, это вовсе не значит, что картина наполнена трюизмами в духе «все нацисты плохие, пусть горят в аду». «Нюрнбергский процесс» не боится острых углов — в нём полно неуютных эпизодов, связанных не столько с военными преступлениями, сколько с попытками «перевернуть страницу». Подобные сцены — одно из важнейших достоинств фильма Стэнли Крамера. Направление, которое он выбирает, чтобы вести зрителей, не самое прямое, в нём полно зигзагов. В какой-то момент мы ловим себя на мысли, что логика и голос разума, в общем-то, велят жить дальше и забыть весь кромешный ужас нацистского режима. Ну было и было.
 Шелл настолько убедителен, что заставляет сомневаться в необходимости судебного процесса даже нас
Шелл настолько убедителен, что заставляет сомневаться в необходимости судебного процесса даже нас
Здесь на первое место выходит Максимилиан Шелл, исполняющий невероятно сложную роль адвоката дьявола. Его персонаж не нацист, он не сочувствует преступникам — но именно его гражданская позиция (позиция немца-патриота), а также неубиваемая логика сообщают всему залу заседаний (а заодно и нам, зрителям) сомнения в необходимости подобного судебного процесса. Что удивительнее всего, происходит это уже в первый час просмотра. И словно в пику этому голосу разума нам дают героя Ричарда Уидмарка — обвинителя на процессе. Полковник армии США, он освобождал лагеря смерти в 45-м; он видел такое, от чего можно сойти с ума; он готов рыть землю до тех пор, пока последний нацистский функционер не будет наказан по закону совести.
Да, да, разумеется, мы на стороне полковника Лоусона. Но… как задушить в себе этот червячок сомнения? В конце концов, война закончилась, главных преступников уже судили, а эти — всё же видные немцы, пусть и бывшие нацисты. За ними может подняться с колен весь немецкий народ — так стоит ли этому мешать?
 И правда, зачем их судить? За ними может подняться с колен весь немецкий народ — так стоит ли этому мешать?
И правда, зачем их судить? За ними может подняться с колен весь немецкий народ — так стоит ли этому мешать?
Голос разума звучит так спокойно и здраво — в отличие от заходящегося в истерике голоса справедливости. Да что тут вообще происходит?! Мы пришли смотреть, как этих нелюдей будут судить — а спустя час чуть ли не сочувствуем им! Что он себе думает, этот чёртов умник-режиссёр?!
Хлебные крошки
Но Крамер себе на уме. Он для того и замыслил весь этот процесс, чтобы мы пришли к единственно возможному выводу через сомнения и споры. И голос разума здесь вовсе не адвокат Рольф в исполнении Максимилиана Шелла, а судья Хейвуд, чью роль взял на себя Спенсер Трейси. Именно отошедший от дел провинциальный юрист, от которого вроде бы никто уже ничего не ждёт, выносит в итоге то самое единственно верное решение — и, что важно, на сто процентов убеждает в его верности нас, зрителей.
В этом ещё одна удивительная черта «Нюрнбергского процесса» — мы вроде бы знаем, на чём основана его история; мы понимаем, что в 1961 году особого заигрывания с такой сложной темой ждать не стоило. И тем не менее мы до последней минуты не уверены, каким оно будет, решение судьи Хейвуда.
 Голос разума здесь вовсе не адвокат Рольф, а судья Хейвуд, чью роль взял на себя Спенсер Трейси
Голос разума здесь вовсе не адвокат Рольф, а судья Хейвуд, чью роль взял на себя Спенсер Трейси
Между тем Крамер оставляет хлебные крошки по всему фильму. Попробуйте, например, проследить за тем, как работает оператор Эрнест Ласло. В картине полно круговых проездок — наверняка в начале 60-х организовать их было довольно трудно, но результат того стоил. Ласло очень часто использует эти проездки вместо стандартной смены планов — и заканчивает их всегда в кульминации. Так, в сцене допроса свидетеля камера, как правило, останавливается после круговой проездки ровно на том персонаже, чьё эмоциональное состояние сейчас важнее всего для зрителя. Точно так же Ласло использует двойной фокус — это когда в сцене одинаково чётко видны ближний и дальний планы. Всё это — мелочи, которые подсказывают зрителю дальнейшее направление и помогают прийти к задуманному автором выводу чуть раньше финальной сцены. И, даже если не думать об этом непосредственно при просмотре, такие приёмы всё равно воздействуют на аудиторию на глубинном уровне.
Последнее испытание
В процессе напряжённого, но довольно ровного рассказа Крамер с Манном неожиданно вписывают в историю твист. Герой Берта Ланкастера, главный подсудимый Эрнст Яннинг в один момент переворачивает весь процесс с ног на голову — это ружьё должно было выстрелить. Новый зигзаг в повествовании словно специально вызван окончательно запутать зрителя в его моральных исканиях. С одной стороны, именно с этого момента нам становится понятно, к чему ведёт режиссёр. С другой — мы ещё больше сочувствуем тем, кому вроде бы сочувствовать никак нельзя.
 Герой Берта Ланкастера, главный подсудимый Эрнст Яннинг в один момент переворачивает весь процесс с ног на голову
Герой Берта Ланкастера, главный подсудимый Эрнст Яннинг в один момент переворачивает весь процесс с ног на голову
Но этот твист — обманка, специальный ход для отвлечения внимания. Крамер проверяет нас: вынесли мы уже своё решение или ещё нет? И что мы, интересно, будем делать теперь, после монолога Эрнста Яннинга?
Эта сцена своей громкостью скрывает от нас куда более важные эпизоды. Так, ещё в первом акте фильма немецкая благообразная чета (потерявшая на войне сына и дочь!) объясняет суде Хейвуду, как могло произойти то, что произошло: «Гитлер… А Гитлер тоже кое-что сделал… Нельзя сказать, что он не сделал ничего хорошего… Он строил шоссе. Люди могли найти работу. Нельзя сказать, что он не сделал ничего хорошего… А в остальном… То, что, говорят, он делал с евреями, с остальными… Мы ничего не знали. Мало кто из немцев об этом знал. Даже если бы мы знали, чтобы мы могли поделать?»
Крамер намеренно ставит эту сцену ближе к началу — это шанс для нас с вами выбрать короткую дорогу и сделать верный вывод раньше, чем закончится фильм. Судья Хейвуд, конечно, не может себе такого позволить — его путь долог и обстоятелен. Но ответ на главный вопрос — всегда ли прав тот, кто поступает логично и вроде бы в соответствии с голосом разума — так или иначе один. Худшая катастрофа, говорит нам Крамер, начинается с первого незаконного шага: «Герр Яннинг, до этого дошло, когда вы впервые приговорили к смерти человека, зная, что он невиновен».