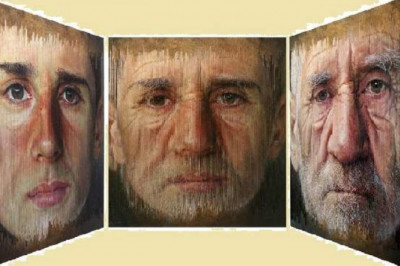В октябре 1917 года в России был полностью сломан общественный строй. Русская творческая интеллигенция — тот самый глас народа — отреагировала на революцию по-разному. Маяковский, Блок, Брюсов и Есенин своим творчеством поддержали строительство нового мира. Другие, не согласные с диктатурой пролетариата, покинули страну. Некоторые остались, надеясь, что все образуется. Кто-то из них погиб в тюрьме, а кто-то сделал карьеру. Мы изучили дневники, письма и статьи авторов тех лет и рассказывает о том, как Россия приспосабливалась к переменам.
«Буревестник революции» Максим Горький всю жизнь мечтал о светлом будущем для простого народа. Идеалист. Думал, все сразу заживут счастливо, богато и осознанно. Будут любить друг друга, пойдут просветляться в библиотеки.
 Ленин и Горький. А. Е. Варшавский. 1975 год
Ленин и Горький. А. Е. Варшавский. 1975 год
Грабежи, насилие, убийства и «тяжкую российскую глупость» — вот что увидел Горький и осветил в цикле статей «Несвоевременные мысли» (1917 год):
«...Около Александровского рынка поймали вора, толпа немедленно избила его и устроила голосование: какой смертью казнить… утопить или застрелить? Решили утопить и бросили человека в ледяную воду. Но он кое-как выплыл и вылез на берег, тогда один из толпы подошел к нему и застрелил его».
Михаил Пришвин, осужденный в 1897 году за перевод книги Августа Бебеля «Женщина и социализм», приветствовал отречение царя и перемены в обществе. А уже осенью 1917 года записал в дневнике:
«7 ноября.
Прислушиваясь к глухим ударам волн, похожим на выстрелы, я хожу возле черных железных ворот нашего дома с винтовкой, из которой не умею стрелять: я охраняю жильцов нашего дома от нападения грабителей. В тесном пролете я хожу взад и вперед, как, бывало, юношей ходил из угла в угол по камере тюрьмы с постоянной мыслью, когда же освободят меня... Вот совершилась теперь мировая катастрофа и наступила диктатура пролетариата, а я по-прежнему в тюрьме, и лучшие часы, когда так я хожу с винтовкой, из которой не умею стрелять».
 Голодные дни в Петрограде. Люди разных классов съедают свои порции у дверей коммунальной столовой. И. А. Владимиров.1919 год
Голодные дни в Петрограде. Люди разных классов съедают свои порции у дверей коммунальной столовой. И. А. Владимиров.1919 год
Заметки за 1918 год — яркие картины голодной и страшной послереволюционной жизни:
«6 марта.
Наконец-то решилась хозяйка моя купить конину, опустила ее в святую воду и подготовила вообще к вкушению котлет такую обстановку, будто мы грех какой-то совершаем, не то человека, что ли, зажарили…
...Собака голодная, облезлая шла, качаясь, по Большому проспекту, на углу 8-й она было упала, но справилась, шатаясь, пошла по 8-й, навстречу ей шел трамвай, она остановилась, посмотрела, как будто серьезно подумала: "Стоит ли свертывать?" — и, решив, что не стоит, легла под трамвай. Кондуктор не успел остановить вагон, и мученья голодной собаки окончились.
8 сентября.
Брошена земля, хозяйство, промышленность, семья, все опустело, все расщепилось... в десятый раз умерли всякие покойники: Тургенев, Толстой, закрыты университеты, еле-еле живут люди в городах, получая ½ ф. хлеба в день, и весь этот дух народа ушел вот сюда, в эти организации…
5 ноября.
Старый нотариус Шубин в своем саду по ночам спиливает сучья деревьев для отопления, он же клеит конверты, вяжет чулки и делает гильзы для папирос.
1 декабря.
Вячеслав Иванов у себя в 4-градусной квартире, в шубе, в очках сидит, похожий на старуху... "Можно ли так дожить до весны?" Оптимисты говорят: "Нельзя! Должно измениться". Пессимисты: "Человеческий организм бесконечно приспособляется..."»
 И. А. Бунин. В. И. Россинский. 1915 год
И. А. Бунин. В. И. Россинский. 1915 год
Иван Алексеевич Бунин 1918 год провел в Москве, а затем эмигрировал. В дневнике, который вышел за границей под названием «Окаянные дни», писатель передает мрачное ощущение того времени:
«1 января (старого стиля).
Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.
7 февраля.
На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:
— Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают — придут, придут, а вот чтой-то не приходят!
По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.
Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.
5 марта.
Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу — умные люди выбирают деньги. Вообще, многие тайком готовятся уезжать.
В вечерней газете — о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:
— Слава тебе господи. Лучше черти, чем Ленин».
 Семья бывших, согнанная с квартиры. И. А. Владимиров. 1918 год. «Бывшими» называли состоятельных и образованных людей, лишенных всех социальных преимуществ после Октябрьской революции: дворян, офицеров Белой армии, духовенство, купцов, промышленников, чиновников монархического аппарата и иных представителей интеллигенции
Семья бывших, согнанная с квартиры. И. А. Владимиров. 1918 год. «Бывшими» называли состоятельных и образованных людей, лишенных всех социальных преимуществ после Октябрьской революции: дворян, офицеров Белой армии, духовенство, купцов, промышленников, чиновников монархического аппарата и иных представителей интеллигенции
Еще одним человеком, который бурно приветствовал Февральскую революцию, но не принял власти большевиков, был поэт Константин Бальмонт. Уехать ему удалось в 1920 году, после голодных и холодных лет в Петрограде и Москве, где «иногда, чтобы согреться... приходилось целый день проводить в постели» и «на себе таскать дровишки из разобранного забора». Вот как он рассказывает о своем втором побеге из России в статье «Кровавые лгуны»:
«...Я задумал бежать из России еще осенью 1919 года. Через друзей — не коммунистов — я получил возможность поехать в Туркестан, откуда хотел бежать в Персию и затем в Англию. Мой близкий друг и мой издатель, начавший печатание полного собрания моих сочинений, В. В. Пашуканис обещал мне дать необходимые деньги…
...Случайно, в доме у поэта Рукавишникова, я встретился с Луначарским. <...> ...он сказал мне: "Зачем вам ехать в Туркестан. Еще два-три месяца, и мы заключим союз с Англией. Тогда каждый, кто хочет, может свободно ехать за границу"...
...В течение этих обетованных месяцев Пашуканис был арестован, его пытали в чрезвычайке, обвиняя в сношениях с Деникиным, его расстреляли, чекисты после его убиения захватили все его вещи, захватили, конечно, и мои деньги, захватили, кроме того, и тысячи экземпляров моей книги "Будем как Солнце", которые этими убийцами были проданы в свою пользу».
Семья Бальмонта уехала в Париж, где поэт жил в основном на пожертвования и скончался в 1942 году.
 Бедственное положение бывших дворян и высокопоставленных лиц. Нарисовано с натуры в доме генерала Бутурлина. И. А. Владимиров. 1919 год
Бедственное положение бывших дворян и высокопоставленных лиц. Нарисовано с натуры в доме генерала Бутурлина. И. А. Владимиров. 1919 год
Александр Иванович Куприн, эмигрировав, жалуется своему другу, художнику Илье Репину, 14 января 1920 года:
«Меня застала волна наступления Северо-Западной армии в Гатчино, вместе с нею я откатился и до Ревеля. Теперь живу в Helsinki и так скучаю по России… что и сказать не умею. Хотел бы всем сердцем опять жить на своем огороде, есть картошку с подсолнечным маслом, а то и так, или капустную хряпу с солью, но без хлеба… Никогда еще, бывая подолгу за границей, я не чувствовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smorgos'a становится у меня поперек горла, хотя на самих финнов жаловаться я не смею: ко мне они были предупредительны. Но я не отрываюсь мыслью о людях, находящихся там (в России. — Прим.ред.)».
25-летнему Константину Паустовскому в 1917 году приходилось туго. Позже в книге «Повесть о жизни. Начало неведомого века» писатель признался, что от голода он и его соседи взломали дверь гастрономического магазина и «по очереди бегали по ночам в этот магазин и набирали сколько могли колбас, консервов и сыра».
Впрочем, хорошие дни бывали. В складчину служители муз снимали пустующую квартиру под кафе и общались:
«Там ночи напролет длилось за крошечными столиками дымное и веселое собрание. Можно встретить Андрея Белого и меньшевика Мартова, Брюллова и Бальмонта, слепого вождя московских анархистов Черного и писателя Шмелева, артистку Роксанову — первую чеховскую "чайку", Максимилиана Волошина, поэта Агнивцева и многих журналистов и литераторов всех возрастов, взглядов и характеров».
 Конвоирование арестованных. И. А. Владимиров. 1918 год
Конвоирование арестованных. И. А. Владимиров. 1918 год
Однажды Паустовского по ошибке чуть не расстреляли красноармейцы. Позже он записал:
«Никогда я не мог понять — ни тогда, ни теперь, — почему, стоя у стены и слушая, как щелкают затворы, я ровно ничего не испытывал. Была ли то внезапная душевная тупость или остановка сознания — не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью, и ни о чем не думал. <...> Мне казалось, что время остановилось и я погружен в какую-то всемирную немоту».
Тем не менее Паустовский смог найти себя в новой России. Здесь он писал замечательные книги и сценарии. Между прочим, трижды был номинирован на получение Нобелевской премии по литературе.
Пролетарский поэт Владимир Маяковский революционерам не просто сочувствовал, а сам в юности состоял в РСДРП, участвовал в различных акциях и сидел в тюрьме.
«Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй», — приветствовал он революцию. В дневниках и письмах — ни строчки об ужасах происходящего
Только о себе любимом и творчестве. В ноябре 1917 года, в разгар событий, он пишет родителям:
«Я здоров. У меня большая и хорошая новость: меня совершенно освободили от военной службы, так что я опять вольный человек. Месяца два-три пробуду в Петрограде. Буду работать и лечить зубы и нос. Потом заеду в Москву, а после думаю ехать на юг для окончательного ремонта».
 В. Маяковский в Грузии. Д. А. Налбандян. 1977–1979 годы
В. Маяковский в Грузии. Д. А. Налбандян. 1977–1979 годы
В декабре того же года, когда разгоралась Гражданская война, Маяковский рассказывал своим друзьям Брикам:
«Москва, как говорится, представляет из себя сочный, налившийся плод, который Додя, Каменский и я ревностно обрываем. Главное место обрывания — "Кафе поэтов".
Кафе пока очень милое и веселое учреждение. <…> Народу битком. На полу опилки. На эстраде мы...Публику шлем к чертовой матери. Деньги делим в двенадцать часов ночи. Вот и все.
Футуризм в большом фаворе.
Выступлений масса. На Рожд<естве> будет "Елка футур<истов>". Потом "Выбор трех триумфаторов поэзии". Веду разговор о чтении в Политехническом "Человека"».
И уже в октябре 1918 года у Маяковского была готова пьеса «Мистерия-буфф», которую поставили в честь празднования первой годовщины революции.
Михаил Булгаков встретил революцию, работая врачом в Вязьме. В качестве военного лекаря он прошел Первую мировую и Гражданскую войны. Часто «мобилизовывался» противоборствующими сторонами.
 Разгром помещичьей усадьбы. И. А. Владимиров. 1919 год
Разгром помещичьей усадьбы. И. А. Владимиров. 1919 год
Белая гвардия проиграла. Булгаков не покинул страну в составе Добровольческой армии только потому, что заболел тифом. Он поселился в Москве и занялся литературной деятельностью. По его фельетонам вполне можно судить о жизни в столице той поры, например о НЭПе:
Он был, в общем, благодушный человек, и единственно, что выводило его из себя, — это большевики. О большевиках он не мог говорить спокойно. О золотой валюте — спокойно. О сале — спокойно. О театре — спокойно. О большевиках — слюна. Я думаю, что если бы маленькую порцию этой слюны впрыснуть кролику — кролик издох бы во мгновение ока. Двух граммов было бы достаточно, чтобы отравить эскадрон Буденного с лошадьми вместе» (фельетон «Столица в блокноте» из газеты «Накануне», 1922 год)
О восстановлении Москвы:
«...Из хаоса каким-то образом рождается порядок. Некоторые об этом узнают из газет со значительным опозданием, а некоторые по горькому опыту на месте и в процессе создания этого порядка...
...Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что "все образуется" и мы еще можем пожить довольно славно…»
Большие произведения Булгаков писал в стол. «Багровый остров», «Бег», «Дни Турбиных» — это все книги-протест.
 Иллюстрация к роману «Собачье сердце». О. Калафати. 2011 год
Иллюстрация к роману «Собачье сердце». О. Калафати. 2011 год
В гениальнейшей повести «Собачье сердце» насмешка над швондерами, представителями новой власти пролетариата, — это не главное. Ключевая идея заложена в сюжете: не стоит проводить эксперименты над жизнью, когда не можешь предсказать их последствия. Сцена операции над Шариком — это аллегория революции. Интеллигенты профессор Преображенский и доктор Борменталь показаны хищными и кровожадными жрецами, а беззащитный пес — жертвой с кровавым венцом на лбу:
«Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными, щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками».
В книге Булгакова профессору удалось увидеть свою ошибку и все исправить. В реальной жизни, к сожалению или к счастью, великий социальный эксперимент был продолжен. Россия превратилась в Советский Союз. Появился советский народ и новая интеллигенция. Что было бы, если бы… — остается только гадать.