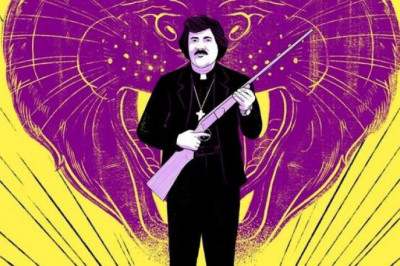Въехав в СССР, мы сразу поняли, что попали в другой мир. Пограничники смотрели на нас так, словно хотели убедиться, что мы потенциальные преступники. На таможне отобрали французскую колбасу, сказав: «Эта колбаса кажется сомнительной. Нужно её проверить». Отняли пластинку Майкла Джексона, заявив, что это запрещённая музыка. Потом, когда я был в «Берёзке», я услышал Джексона и спросил: «Как, разве это не запрещённая музыка?»
Но это был, наверное, лучший год моей жизни − я впервые был за границей, без родителей, и я попал в институт, где учились студенты со всего мира.
Институт бобского языка
У моих соседей-мексиканцев был шок: в сентябре выпал снег, и с утра до вечера они говорили только о том, что надо покупать калифактор, это такой радиатор. Повторяли слово «калифактор», умирая от холода. Потом я подружился с африканцем из Анголы, Бобом, и мы решили жить вместе. Когда Боб вошёл в комнату, он сел и со счастливой улыбкой произнёс: «Я приехал учиться в страну великого Ленина!» Правда, через год он сказал, что жизнь в СССР стала для него самой большой школой антикоммунизма… Почти все студенты любили русский язык и культуру. Много было европейцев русского происхождения, много коммунистов, которые верили, что СССР − это рай. Студенты из Восточной Европы приезжали, чтобы стать преподавателями русского языка, но они не слишком интересовались учёбой, больше радовались тому, что можно познакомиться с ровесниками с Запада. Они и в коммунизм не верили. Ярыми коммунистами были люди из бывших колоний – из Африки или Южной Америки. Я же впервые столкнулся с тем, что некоторые студенты смотрели на меня враждебно, потому что их страны пострадали от колониализма и империализма. Тогда я понял, что и моя Франция не идеальна.
Я впервые жил без мамы, и надо было устраивать быт, но я совершенно растерялся. Сначала жил только на стипендию. Зашёл в магазин, там пусто. Одни консервы, а фруктов на завтрак нет. Я не мог понять, как работают магазины, не мог найти рынок. Потом сообразил, что нельзя выходить из дому без сумки, ведь случайно ты можешь встретить яблоки или туфли. Если видишь что-то, любую вещь − надо сразу покупать, а потом уже думать, для чего. Но однажды я встретил одного шустрого француза. Он позвал меня в своё общежитие, откуда уехала группа иностранцев. Мы обошли комнаты, собрали вешалки, чайники, тапочки − всё, что осталось, и я обустроил своё жильё.
В своего соседа Боба я почти влюбился. В Африке люди не думают, что будет завтра, они живут сейчас, и всё у них прекрасно. Например, мы поднимаемся в лифте с африканкой, Боб смотрит на неё, потом на потолок и вдруг спрашивает: «Фотография есть?» Она удивляется: «Какая фотография?» – «Твоя фотография, чтобы я повесил её над кроватью и каждое утро, когда проснусь, говорил: «О-о-о!» Она так смеялась!
В соседнем с нами блоке жили северные корейцы. Во вторник они купили рыбу на рынке, а день рождения намечался в пятницу. Рыба три дня плавала в ванне, и никто не мог помыться. А когда пришли гости, были сняты двери с петель, включая ванную и туалет, чтобы сделать большой стол. По утрам ровно в шесть эти двадцатипятилетние парни делали гимнастику и пели совершенно детскими голосами: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама…» А мои соседи – анголец и венесуэлец, не выспавшиеся после ночных похождений, – начинали страшно сердиться, когда слышали этот корейский хор. А в день рождения Ким Ир Сена, если два корейца встречались в коридоре, надо было обязательно плакать, и тот, кто плохо плакал, был, возможно, враг народа. Кроме своей культуры, они не знали ничего. Я спрашивал: «Вы слышали Моцарта, Бетховена, западную музыку?» Не слышали. Никогда. Но однажды я запел Let It Be, и они начали подпевать. Эта песня в их стране называлась «Маленький цветок рассвета».

Бизнес-центр имени Пушкина
В нашей группе было сорок человек из двадцати стран, мы были как братья. Вместе покупали еду, вместе носили одежду. Валюту обменивали по обычному курсу, но потом стали менять на чёрном рынке, превратились в богачей и бросились в рестораны, хотя кафе и ресторанов в Москве было мало — на каждой станции метро по одному. Однажды я повёл свою девушку в «Арагви», но швейцар меня не пустил. «Я француз!» − гордо сказал я, а он в ответ: «Тогда я – английская королева!» − и захлопнул дверь перед носом. Пришлось доставать паспорт… Мы понимали, что это плохо, но, как дети, не могли остановиться. И больше не хотели есть в столовой ужасные сосиски с капустой. Некоторые занимались бизнесом серьёзно. Например, африканцы организовали «треугольную торговлю». Они покупали пару чемоданов фотоплёнок, с ними летели в Мали, там их продавали, а с деньгами отправлялись в Париж, на арабский рынок, где невероятно красивые ткани. Набивали ими чемоданы, возвращались в Москву и продавали людям из Средней Азии, которые шили из них свадебную одежду. Прибыль получалась стократная.
Институт любви
Жозе, приятель Боба, приехавший из Анголы, на родине был комиссаром. Когда выпал снег, он перестал выходить на улицу. Гулял по общаге в зимнем пальто на голое тело и в шортах, заходил к друзьям попить чаю. Однажды постучался в комнату к другу, когда тот занимался любовью. Жозе извинился и пошёл дальше. Но через пять минут вернулся: «Раз я вам всё равно помешал, можно мне попить чаю?» Однажды приехал автобус, и из него выгрузилось 48 польских девушек. Боб в это время заходил в здание, весь в белом. Боб посмотрел на красавицу-блондинку и говорит: «Вот это да!» И в этот момент бабушка-дежурная кричит: «Молодой человек, вы куда?! Предъявите документ!» Польки хохочут, Боб смотрит дежурной в глаза и медленно произносит: «Я – тебя – убью − и – плакать − не буду!» Потом отворачивается и уходит, как принц.
 На субботнике в МГУ
На субботнике в МГУ
Мой друг-индус жил в комнате с французом и финном. Француз влюбился в швейцарку, но им негде было заниматься любовью. Если они шли в комнату к девушке, то скандал поднимала соседка-японка. Если парочка ночевала в «мужской» комнате, получалось не лучше. Для индуса невозможна близость вне брака, у них, если девушка тебя поцеловала, ты обязан на ней жениться. Драмы тоже бывали. Парень из Польши влюбился в болгарскую девушку, но тут выяснилось, что он член «Солидарности». Его обвинили в том, что он избил афганца, и выслали по фальшивому обвинению, хотя все знали, что он весь вечер провёл у девушек. Вечеринки происходили постоянно. За весь год был только один вечер, когда меня никуда не позвали. Я убито побрёл на кухню готовить яичницу, а там – три итальянки. Мы поужинали вместе.
Лекарство для француза
Во мне не было ничего интересного, кроме паспорта, но он в Москве открывал все двери. Советские люди, с которыми я подружился, меня поразили. Мне стало стыдно, что кто-то знает мою культуру лучше, чем я. Они так ею интересовались, что благодаря им я понял, что следует её знать. И ещё я понял, что в вопросах дружбы русские очень отличаются от рациональных западных людей. Когда, живя во Франции, я заболел раком, мне звонили из России и Восточной Европы даже те, кто не имел ни копейки: «Если тебе нужна любая помощь – я здесь».
В Москве я тоже заболел, попал в больницу и лежал в палате, где было восемь человек. Положили меня сразу, правда, ничего не сделали. К счастью, среди нас оказался студент-медик, он потребовал, чтобы нам хоть что-то дали, а иначе лекарств могло не достаться. Туда явилась администрация, интересовались, что надо улучшить. Я сказал, что всё очень хорошо, но было бы лучше, если бы больным готовили блюда на выбор. Например, я не люблю кашу и хочу, чтобы вместо каши были картошка или рис. У врача вытянулось лицо, а мои товарищи по комнате хохотали, как бешеные.
Ещё меня поразили девушки. Было ощущение, что, если русская девушка влюбится, она жизнь за тебя отдаст. В Европе в отношениях больше эгоизма: если молодые люди начинают жить, то каждый думает прежде всего о себе и своём удовольствии. А здесь было не так. Но тогда москвички не казались мне красивыми. Плохая еда, серая одежда. А когда я приехал в 90-е, девушки превратились в невероятных красавиц, начали следить за собой и использовать косметику. Когда французы в 90-е меня спрашивали, что брать с собой в Россию, я советовал прихватить мазь для шеи, потому что голова будет вертеться, как пропеллер, столько вокруг красавиц.
 Кухня в общежитии
Кухня в общежитии
Русская семья
Самым большим моим счастьем было то, что в СССР я познакомился со своей семьей. Мой отец, советский солдат, после плена остался во Франции. Родственники со стороны матери – эмигранты первой волны, белогвардейцы. Родители никогда не говорили со мной по-русски − им было тяжело в эмиграции, и они не хотели, чтобы я тоже жил в тоске, и сделали из меня француза. Но меня тянуло в Россию. В Сорбонне я изучал экономику и русский язык, а в 1985 году получил стипендию, чтобы год учиться в Москве. Мой отец лишь после смерти Сталина смог написать родным, что он жив. А в 1980 году в Париж чудом приехал мой двоюродный брат Николай, первый человек из Перми, который получил разрешение приехать во Францию, − какой-то человек, ветеран, за него поручился. Моего отца к тому времени уже не было в живых, единственное, что помнил о нём Николай, − как они прощались, когда отец уходил на фронт. И вот через сорок лет мы встретились.
Николай приехал во Францию на три недели, и первые две мы показывали ему Париж. А в последнюю дали почитать «Архипелаг ГУЛАГ». Он семь дней сидел в комнате и читал, даже не спал ночами. А когда уезжал, мы собрали семь чемоданов подарков. До сих пор, тридцать пять лет спустя, мои родственники помнят всё, что они получили в поларок. Мы послали футболку национальной французской команды по футболу, и потом оказалось, что все мальчики в семье, все поколения, носили эту футболку.
Когда Николай вернулся в Пермь, весь город звал его «парижанин». Каждую субботу на даче собирались мужики, и он рассказывал им про Париж, а на десерт его просили: «Расскажи про Пигаль». Десять лет он рассказывал друзьям одно и то же. Все понимали, что с каждым разом он всё больше привирает, но всё равно требовали новых подробностей.
Так я влюбился в свою русскую семью. В 90-е я поехал на Урал в командировку и увидел их всех. Я вошёл в комнату, полную людей, почти всем было за пятьдесят, мне − за тридцать. Их родители были братьями и сёстрами моего отца. Для них он пропал без вести, но они всегда жили надеждой, что он не погиб. Они верили, что когда-нибудь узнают, что он жив. В этот вечер я понял, что это не я приехал – это отец мой вернулся в свою семью. Они и смотрели на меня так, как будто это он. Они подарили мне маленькую фотографию отца, и это всё, что осталось от первых двадцати лет его жизни. Был чудесный вечер, все плакали, а я понял, как здесь, особенно в моей старообрядческой семье, важны семейные связи. Я видел этих людей впервые, но ощущал, что это самые близкие мне люди, в какой-то степени даже более близкие, чем моя французская семья. Уезжая, я сел в машину с тремя родственниками-мужчинами. И вдруг вспомнил, что рассказывала мне мама... Отец получил через два года, в 1958 году, ответное письмо из России. Николай написал ему обо всём, что случилось в семье за эти годы. Что родители отца умерли, что с близкими после войны случилось то-то и то-то. В течение недели мама утешала отца. У него была такая депрессия, что не хотелось жить. Я вдруг вспомнил об этом в машине и начал рыдать, как не рыдал никогда в своей жизни. Я даже кричал от боли.
На Урале мне показали деревню, где до 30-х годов жила моя семья. По дороге рассказали про преследования, про раскулачивание и что дедушка мой, старообрядец, должен был скрываться, и его дети тоже. Когда я приехал туда, у меня было ощущение, что отец сидит у меня на плечах, и поэтому я узнаю эти древние дома, которые остались такими, как триста лет назад, узнаю деревню, где медведь зимой может забрести во двор. Тогда я понял, что каждый живёт не только собственную жизнь, а я – продолжение своей семьи, звено в цепи Я должен жить и за себя, и за тех людей, что были до меня. Для этого надо понимать, кто ты, откуда, кто твои предки, и ты должен продолжать их путь. Иначе жизнь бессмысленна.
В 1985-м, когда я учился в Москве, из Перми приехали Николай и его сын. Они позвали меня в гости и радовались, что могут угостить хлебом и сыром. А я на следующий день пригласил их в гостиницу «Космос». Официанту сказал, чтобы он принёс самое лучшее, цена не имеет значения. Я увидел их удивлённые глаза, а когда принесли икру и всё остальное, в их глазах появился испуг. И стало так грустно, что иностранец в их собственной стране приглашает их туда, куда они не могут себе позволить пойти. И это ненормально, это «мир наоборот». Страна была закрытой, и поэтому накопились несовпадения. Многие люди из-за несоответствия официальной и реальной версий потерялись, ведь если государство тебе постоянно врёт, то зачем быть честным? После Института имени Пушкина иностранцы могли выбирать любой институт. Например, мои друзья поступили в ГИТИС, хотя у них не было особого таланта. Я тоже мог поступить куда угодно, хоть в МГИМО, но я отказался. Я был рад, что вернулся во Францию, потому что в Москве жизнь была слишком лёгкой и приятной, как в сказке. Но нечестной. Меня мучило, что я связан с чёрным рынком, что у меня есть французский паспорт, и с ним я VIP. Но когда я приехал в Париж, я сразу перестал быть принцем с иностранным паспортом. Я стал обыкновенным. Обычным французом, как все, и надо было начинать жить заново.