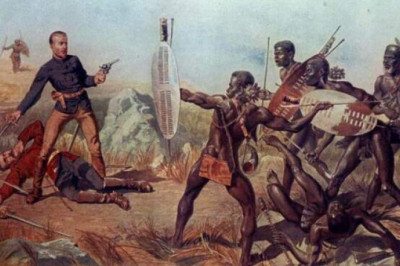Пейзажи – вещь легковесная. Даже если они изображают ураганы, перед нами всего лишь атмосферные явления, это лишь состояния природы, и рассказывают они о настроениях художника, только и всего. Сентиментальные (любовь зарождается в этих рощах), драматические (и в моей душе тоже буря), туристические (здесь я тоже бывал) – это всего лишь пейзажи.
Леонардо говорил, что если губку обмакнуть в краску и бросить об стену, то на стене останется изображение пейзажа. Эдгар Дега, когда его застали за рисованием пейзажа, смутился (он ведь презирал импрессионизм) и на вопрос, не отвлекли ли его, ответил: «Что вы, это всего-навсего пейзаж».
Было в истории несколько авторов, которые пейзаж поднимали до глубокомысленной картины – Сезанн, сделавший пейзаж стройплощадкой для новых принципов эстетики, и Брейгель, писавший, как устроена планета, с горами, морями и лесами. Но это редкость.
Можно сколь угодно умиляться пейзажам импрессионистов и есть любители Айвазовского, но простая правда заключается в том, что никакого серьёзного сообщения эти произведения не содержат и содержать не могут. «Зачем ехать на Таити, когда так хорошо пишется здесь, в Батиньоле», – говаривал Ренуар, но он не добавлял, что мягкая природа Иль-де-Франс, покойные ландшафты и трепетные небеса не обременяли его никакими неудобными эмоциями. Айвазовский писал свои марины буквально километрами (это не фигура речи: художник писал большие холсты и потом нарезал из них маленькие, которые дорабатывал), и его переживание от холста к холсту если и варьировалось, то не радикально.
Пейзаж – это всего-навсего пейзаж, не надо преувеличивать его значение. Если вы внимательно станете рассматривать картины ренессансных мастеров, то на заднем плане, за фигурами святых и пророков, вы найдёте сотни пейзажей, причём выполненных не хуже работ нового времени, а значительно лучше. Пейзажи Леонардо или Ван Эйка не уступают пейзажам барбизонцев и «малых голландцев», а превосходят их в осмысленности и глубине. Но, будем честны в суждениях, картины Ван Эйка и Леонардо не только рассказывают нам о ландшафтах – там ведь главное совсем не в видах природы. Обособив жанры (пейзаж, натюрморт, портрет), расставшись с глубокомысленной картиной так же, как расстались с католической верой и иерархией небес, художники новой, протестантской Европы лишились великих замыслов. Отныне зрителю предлагали фрагменты больших произведений Ренессанса – в качестве самостоятельных произведений искусства. То, что Леонардо помещает за плечом у Джоконды, то, что Ван Эйк пишет в качестве вида из окна комнаты, в которой сидит Дева Мария, стало отдельным произведением и удостоилось отдельной рамы.
Целое раздробили на части – возникли мастера натюрмортов, пейзажисты и портретисты, и ни один из них не заходил на делянку другого. Особенно хорошо это видно в Голландии XVII века, где труд художника был полностью десакрализован, стал ремеслом, получил – сообразно заказам бюргеров – узкопрофильные характеристики. Виллем Клаас Хеда писал только натюрморты, а Хендрик Аверкамп – только пейзажи, а Франс Халс специализировался на портретах – и жанры не смешивали. И более того, даже эта исключительно узкая специализация и та дробилась на мелкие профили работ: существовали мастера ночных пейзажей, маринисты (причём последние делились на тихих маринистов и маринистов-баталистов), мастера лесных пейзажей и мастера, воспевающие фермы в полях.
Дробление искусства на отдельные темы (или, если угодно, утрата искусством универсализма суждения) преодолевалось из ряда вон выходящим мастером – Рембрандтом; но это единичный случай. Изобразительное искусство раздробили на фрагменты – то, что было некогда огромным собором, рассыпалось на маленькие картинки. И величие замысла осталось в прошлом.
 "Две мельницы". 1650-1652 годы
"Две мельницы". 1650-1652 годы
олландский живописец Якоб Рейсдал не писал ничего, кроме пейзажей (говорят, что фигурки в его пейзажах не его кисти, хотя я лично в этом сомневаюсь: слишком виртуозен мазок), однако его полотна оставляют в зрителе то глубоко серьёзное чувство, которое вызывают картины с героями и характерами. Ни его учитель Херкулес Сегерс (отличный пейзажист, певец горных кряжей), ни его ученик Мейндерт Хоббема (мастер изображений растрёпанных ветром рощ) не могут погрузить нас в такое сосредоточенное размышление.
Произведения Рейсдала (как и полотна Рембрандта) начинаешь переживать ещё издалека, едва входишь в зал, где есть хоть одна картина его кисти. Рядом висят пейзажи его дяди Саломона Рейсдала, пейзажи его современника ван дер Нера, морские баталии Бакхойзена – это всё профессиональная, эффектная живопись. Рейсдал – живописец ровный, ему не свойственны эффекты, и он чужд романтики. Точно серьёзное тихое и твёрдое слово, сказанное посреди пустой салонной болтовни, эти тёмные полотна останавливают зрителя. Рядом с этими вещами надо стоять долго, хотя объяснить, что именно эти картины говорят нам, – непросто. Перед нами всего лишь пейзаж – нарисованы перелески и луга, но чувства, которые пробуждают эти дали, никак не связаны с атмосферными явлениями, чувства и мысли перерастают впечатления от природы.
 "Еврейское кладбище". 1664-1665 годы
"Еврейское кладбище". 1664-1665 годы
Это странно произнести, но картины Якоба Рейсдала заставляют размышлять о бренности, о скоротечности жизни, о неизбежности смерти. Дело даже не в том, что пейзажи сумрачны (мало ли сумрачных пейзажей?) и неуютны (Тёрнер – тот вообще писал тайфуны и шквалы на море), но картины Рейсдала целенаправленно, сосредоточенно печальны: художник знает горькую правду о жизни и монотонно, упорно повторяет её зрителю. Это само по себе парадоксально: пейзажная живопись располагает к пантеизму, к утверждению, что природа есть своего рода божество, что природная красота стоит того, чтобы её увековечить наряду с ликом Божьим; такая презумпция исключает сожаления о бренности бытия.
Напротив, пантеист воспринимает конечность человеческого бытия как торжество природы. «Вcё жившее умрёт и сквозь природу в вечность перейдёт», говоря словами принца Датского. Однако у Рейсдала торжества природы нет – есть лишь бесконечная печаль, разлитая в природе. Апогея рейсдаловская печаль достигает в «Еврейском кладбище». Это картина, в которой художник, не колеблясь, поставил свою подпись на одном из надгробных камней. Всё и всегда, на каждом холсте – безрадостно: тёмные тяжёлые лапы елей, обязательное сухое бревно на первом плане, небо, затянутое тучами.
Суровый край, это понятно; но даже суровый край можно изобразить благостно, найти привлекательную сторону. Вот, скажем, ван Остаде или Тенирс Младший нас учат тому, что у очага можно отогреться, а Франс Халс утверждает, что после пары стаканов на погоду уже внимания не обращаешь. Но Рейсдал показал Голландию не только суровой, но и неизбывно безрадостной. Его одинокие путники идут в никуда, и тропинка, петляя меж болот, не приводит к очагу.
Возможно, дело в том, что Рейсдал был врачом – он знал о скоротечности жизни больше, чем другие. Впрочем, не вполне доказано, что он врач. Его имя (Якоб Рейсдал) упоминается в списках гильдии врачей, он обозначен как хирург; но, может быть, был какой-то другой Якоб Рейсдал – как можно совмещать хирургию и такое интенсивное рисование? Будь он действительно врачом, это много бы объяснило, в частности и то, как художник выбирал мотивы для пейзажей. Возможно, врач по пути к пациентам (часто он шёл к беднякам, живущим на окраинах) встречал такие унылые мотивы, мимо которых художник пройти не мог.
Это заболоченные пустоши, поросшие вереском и чертополохом дюны, буреломные чащи. Если он пишет дома, то лишь затерянные на пустырях, стоящие особняком на кривом косогоре; он пишет последние улицы в деревнях, неказистые проулки, за которыми уже нет ничего – только поле и небо; и небо, как правило, грозовое. От пейзажей его ученика Хоббемы у зрителя появляется безотчётная радость: надо же, какая красота нас окружает! От пейзажей Якоба Рейсдала часто рождается вопрос: и как тут люди живут? Изображены места, в которых существуют превозмогая природу, вопреки всему. Якоб Рейсдал достигает вовсе драматической интонации в своих знаменитых зимних сценах, которые он сам называл «Пейзажами Норвегии».
Страна Норвегия (неизвестная ему) в данном случае выступает метафорой абсолютного холода – замёрзшая Голландия казалась Рейсдалу ещё недостаточно холодной, ему требовалось погрузить путника в совершенный ледяной Коцит. Художник добивается того, что зрителям передаётся чувство отчаянной неприкаянности – как выжить под этим ледяным ветром. Надо сказать, что зимние пасторали часто становились предметом изображения «малых голландцев». Замёрзшие реки и конькобежцы – кто же этого благостного и пёстрого быта не нарисовал? Подобно уютным натюрмортам с завитой кожурой лимона (см. Виллема Клааса Хеду и т.п.), подобно буколическим сценкам в кабачках (см. Адриана ван Остаде), где даже пьяная драка предстаёт бутафорски нестрашной, но, напротив, умилительной, зимние пейзажи Аверкампа и ван дер Нера убеждают нас: зимние радости – это расчудесный дар голландской природы.
 "Зимний пейзаж". 1665 год
"Зимний пейзаж". 1665 год
Якоб Рейсдал в зимних пейзажах видел совсем иное: сгустившийся мрак и безысходность бытия – и упорного одинокого человека, прокладывающего путь сквозь буран. Кто же ещё писал в те годы так? И кто так писал потом?
Нет ни малейших сомнений, что прямым учеником Рембрандта выступил (спустя полтораста лет) Винсент Ван Гог в годы своего первого, так называемого нюэненского периода – ещё когда он работал в доме своего отца, пастора, и рисовал крестьянский бедный быт. Те же сжатые холодом поля, окаменевшая под ледяным ветром узкая дорога, скрюченные руки деревьев – и неутомимый странник, идущий против ветра. Это ведь типичный рейсдаловский мотив – одинокий путник на дороге. В своём последнем цикле, уже в пору жизни на юге Франции, Ван Гог вернулся к тому самому рейсдаловскому ощущению бытия – и когда он писал свой отчаянно-упорный автопортрет «Художник идёт работать», то повторил рейсдаловскую композицию: одинокий путник идёт по дороге. Это стало у Ван Гога метафорой судьбы творца, метафорой одиночества интеллектуала; ничего этого художник и врач Якоб Рейсдал в свои собственные холсты вложить не собирался – он писал любую судьбу, обречённую жизнь каждого.
Сопоставление сиюминутного с вечным можно увидеть в художественном приёме его письма, в том, как художник Якоб Рейсдал накладывает краску.
Якоб Рейсдал, прежде чем перейти к живописи на холстах, долго писал на досках; буро-красная поверхность древесины служила ему фоном для сырого серого неба – и этот контраст выработал специальную технику живописи Рейсдала. Красный цвет фона даёт ощущение близости предмета, холодный серый тон – напротив, отдаляет изображение. Рейсдал втирал серый пигмент, разведённый льняным маслом, непосредственно в красно-бурую древесину, чем добивался страннейшего противоречивого эффекта: небо одновременно и воздушно-прозрачное, удалённое от нас, зрителей, и тяжёлое, нависающее над нами.
Итальянцы и испанцы в своих огромных соборных холстах писали небеса как твердь; этого, разумеется, требовала и вера, и структура сложносочинённой картины заставляла писать так. Отказавшись от соборной иерархии, «малые голландцы» сочинили весь пейзаж (и манеру его изображать) заново – у них появились трепетные, прозрачные небеса, трепещущие облака, нанесённые ветром тучи. Рейсдал умудрился сочетать оба подхода: его небеса одновременно и твердь, и прозрачный воздух; достигается это тем, что мастер местами оставлял коричневый грунт нетронутым, красная основа просвечивает сквозь серую лессировку.
Эти приёмы – лессировка холодным прозрачным цветом поверх тяжёлой корпусной основы – были унаследованы в дальнейшем мастерами, пытавшимися возродить многосмысленную картину в Европе. Упомяну здесь лишь один пример, но пример разительный. Под большим влиянием пейзажей Якоба Рейсдала (в особенности его манеры писать небо) находился английский романтический живописец Джон Констебл. Английский пейзажист написал шесть реплик с пейзажей Рейсдала, усваивая его уроки сопоставлений жаркого цвета первого плана и движений холодных воздушных масс. Важен здесь не сам Констебл, но то, что Констебл, в свою очередь, выступил как учитель Эжена Делакруа. Последний, работая над своей знаменитой вещью «Резня на Хиосе», руководствовался уроками Джона Констебла. Общеизвестно, что, уже доставив своё гигантское полотно на выставку в Гран-Пале, Делакруа увидел работу Констебла и был поражён тем, как англичанин писал небо, – Делакруа потрясло то, что Констебл мог себе позволить использовать красный и оранжевый и тёмно-коричневый при написании небесного свода – вопиющая бестактность для салонного французского живописца. Делакруа настолько впечатлила эта смелость, что он переписал небо своей картины – переписал прямо в выставочном зале. Но то, что Эжен Делакруа принимал за урок, полученный от Констебла, на самом деле было уроком и методом Якоба Рейсдала.
Так, возрождение большой масляной сюжетной картины (то есть универсального высказывания) обязано голландскому пейзажисту, который от больших сюжетов принципиально воздерживался.
Впрочем, и это утверждение не до конца соответствует истине. Большая форма в произведениях Якоба Рейсдала присутствует, просто её надо осознать как таковую. Несмотря на безлюдье пейзажей Рейсдала, неcмотря на то, что в его картинах программно нет сюжета, – и герой, и сюжет, и даже небесная иерархия в них присутствуют.
Протестантская плоская Голландия не знала знаковой вертикали городов – cоборов в Голландии не строили, а низкие кирхи и молельные дома сливались с пейзажем, не образовывали той драматичной вертикали, какую даёт католическому городу собор. Собор, поставленный перпендикулярно всякому быту и обыденному существованию, даёт иное измерение и живописи; протестантская живопись была этой вертикали лишена. И вот Рейсдал пришёл к тому, что он эту вертикаль, этот перпендикуляр создал заново.
Собором для голландских пейзажей является мельница. Именно мельница, самая высокая и самая важная из построек, и есть то, что формирует пейзаж Голландии, даёт точку отсчёта для любого взгляда, образует перспективу. Мало этого, мельница и по самому смыслу своего существования выполняет функцию собора: даёт хлеб насущный – молитву «Отче наш», буквально воплощённую в здании.
Рейсдал написал сотни картин с мельницами – под грозой и ветром, под тревожными серыми небесами, и одинокий путь странника на его картинах чаще всего ведёт к мельнице.
Рассматривая картины Якоба Рейсдала, мы видим, как художник заново выстраивает разрушенную протестантизмом иерархию – снова создавая небесную твердь и сызнова строя собор. Просто это собор для бедных и твердь, защищающая не только короля, но и бедняка, устало бредущего по дороге.
А то, что путь труден, одинок и обречен, – что ж с этим поделать? Но идти всё равно надо, и крылья мельницы должны крутиться. Вот про это Рейсдал и написал.