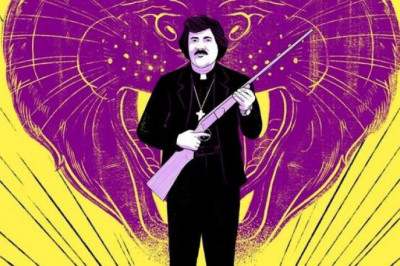Неискусная и нецензурная
«Это вовсе не повесть, а просто заметки, отрывки из дневника, писанные в разное время, под разными впечатлениями, и на живую нитку связанные интригой, довольно неискусной», — говорил сам Суворин. Фельетоны под заглавием «Всякие. Нечто вроде повести» печатались в «Санкт-Петербургских ведомостях», где работал будущий известный издатель. Сочинения подписывались псевдонимом А. Бобровский.
До принятия Временных правил они публиковались по мере написания: с июля по сентябрь 1865 года свет увидели 16 глав. «Вообще цензура народного просвещения была в то время гораздо снисходительнее, чем она стала, когда перешла в министерство внутренних дел и когда газета стала выпускаться якобы без цензуры». После утверждения нового закона фельетонные сочинения Суворина то и дело вызывали недовольство, и газета «…уже 20-го сентября получила первое предостережение за статью самую безобидную, но задевавшую одного из второстепенных чиновников».
 Молодой Алексей Суворин.
Молодой Алексей Суворин.
Суворин признавался, что пошлые речи помещиков записаны им чуть ли не дословно. Имена одних героев — подлинные, других — изменены. Так, Чернышевский, скрывающийся под фамилией Самарского, не мог быть не узнан цензором. Смелые мысли «о земствах, о необходимости центрального объединительного земского собрания и о земском соборе», содержащиеся в фельетонах, могли стоить Коршу, редактору «Ведомостей», его газеты. Когда дальнейшая публикация «Всяких» стала невозможной, Суворин решает дописать их и издать отдельной книгой.
К чему приводят покушения на императоров
Подготовка «Всяких» завершилась к марту 1866 года. «Книжка представлена была в цензуру в начале Страстной недели. Но через день была возвращена обратно в типографию, так как переплётчик пропустил один лист. Пока исправлялся этот недочёт, настали «неприсутственные дни»… В исправленном виде книжка послана была только в понедельник, на Фоминой, утром, а к вечеру весь Петербург был глубоко потрясен известием о покушении на жизнь императора Александра II».
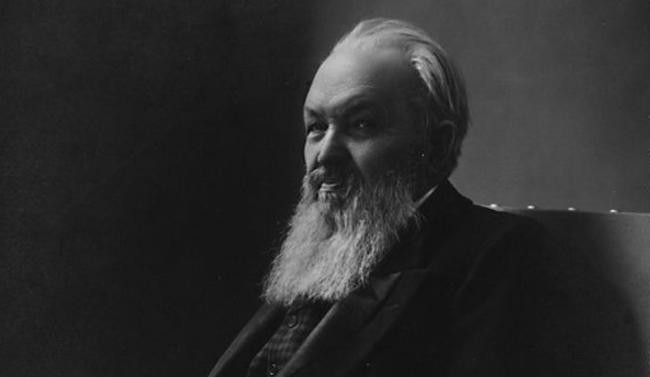 Алексей Суворин, 1903 год.
Алексей Суворин, 1903 год.
Начались проверки и обыски, публицисты подвергались арестам. Суворин решает повременить с выпуском книги. Чтобы отозвать её из цензуры, он пишет министру внутренних дел П. А. Валуеву. Но письмо осталось без ответа, а книга была арестована.
Процесс и приговор
«Чуть не накануне суда я ехал в Царское Село вместе с прокурором, который должен был обвинять меня. Мы были хорошо знакомы, и разговор шёл о моей книжке, и такой разговор, что я мог вынести из него самое благоприятное для себя впечатление. Но когда на скамье подсудимых я услышал грозную речь и требование заключить меня в тюрьму на три месяца, меня бросало в жар».
Благодаря хлопотам адвоката К. К. Арсеньева приговор был смягчён: Суворин получил трёхнедельное заключение на гауптвахте. «Несмотря на этот короткий срок, я узнал, как тяжело лишение свободы». С произведением же обошлись куда строже: «Всякие» были сожжены. Причём Главное управление настаивало на уничтожении даже корректурных и дефектных листов, чтобы пресечь возможность любого распространения.

В повести Суворин иронично обращался к цензору: «Я был откровенен, я не лукавил и, надеюсь, не дал работы твоему, о страж по делам печати, красному или синему карандашу…» Но карандаш потрудился на славу: уцелевший экземпляр, выкупленный Сувориным у букиниста, пестрел цензурными отметками. Лишь в 1909 году автор решится переиздать повесть вновь.
Колоритные персонажи
Главный герой «Всяких» — семинарист Ильменев, окончивший курс в Медико-хирургической академии. С литератором Самарским его роднила жажда борьбы. Ильменев участвовал в подбрасывании прокламаций, но понял неэффективность такого метода протеста. Герой, «преступник, представленный как нравственная сила», скрывается от полиции. Он бежит из Петербурга в Сибирь, освобождает своего отца-каторжника и уезжает с ним в Америку.
Ещё одна героиня, встречающаяся на протяжении всей повести, — Людмила Ивановна, нигилистка с остриженными волосами. Она «любила до страсти» Самарского. Живёт переводами и уроками, работает в типографии. Но особенно она хлопочет об устройстве женских артелей и пропагандирует новые идеи о социальном положении женщины.
Князь Щебынин — личность бесхарактерная. Он стоит за нигилистов и некоторое время даже подражал Базарову. Жена ушла от князя, но спустя время её сестра сообщает Щебынину, что у него есть сын. Сам же князь, как ему кажется, безнадёжно влюблён в Людмилу Ивановну.
Без вины ли виноват?
Прокурор обвинял Суворина в том, что тот подверг правительство резкому порицанию. Представлялась такая картина: власть подкупает редакторов, а под видом свободы печати допускает прежние стеснения. Намёк на то, что важные должности вверяются в России бездарным и подлым людям, возбуждает ненависть к чиновникам. Дворянское же сословие показано в повести безнравственным, попирающим святость брака. А ещё, согласно обвинению, Суворин сочувствовал политическим агитаторам, подвергшимся преследованию: например, исполнение приговора над политическим преступником (в котором узнаётся Чернышевский) описано нарочно так, чтобы распалить в читателе «отвращение к действию карающего закона».
 «Всякие: Очерки современной жизни». Издание 1909 года.
«Всякие: Очерки современной жизни». Издание 1909 года.
В целом же повесть удостоилась такого резюме: «Сочинение Суворина принадлежит к разряду тех произведений печати, которые, не представляя собой ничего полезного, могут только вносить смуту в неопытные умы, возбуждая в них безотчётное раздражение против существующего порядка вещей».
Справедливы ли эти обвинения? Вот лишь некоторые яркие цитаты, мимо которых не прошёл бы ни современник, умеющий читать между строк, ни бдительный цензор.
О борьбе
Пошумите, полиберальничайте, милые дети, это даёт моцион лёгким.
***
А что молодёжь хочет быть независимой, не хочет преклоняться перед посредственностью, не хочет смотреть на злоупотребления закрыв глаза, так это в её же пользу говорит.
***
Физическая природа тем прекраснее, чем она разнообразнее; чем больше цветов, тем картина ярче, оживлённее. Разности сглаживаются, тонут в общей гармонии, и выходит прекрасное целое. Посмотрите же на однообразную степь — разве не пугает она вас видом своим? То же самое в жизни государственной. Дайте арену для борьбы мнений, дайте поприще, на котором бы силы каждого могли быть приложимы, и вы увидите, какая широкая, какая чудная жизнь закипит, как быстро сгладятся все разности и как быстро вырастет наша родина…
***
В скверные минуты я думаю иногда, что если б Дарвин был русский, то ему и в голову не пришло бы выдумать «борьбу за существование». Выдумал её он потому, что он — англичанин. Англия — по преимуществу страна борьбы, там все ведут борьбу — растения с растениями, животные с животными. И какая борьба!.. А у нас что? Ширь и гладь и благодатный сон. Места вволю — поди и разгуливай. О борьбе никто и не думает. Да и кто выйдет на борьбу…
О чиновниках
Я вот что скажу тебе: при прежних царях-то, давно, с сотню лет назад, пытка была. Хорошее, я тебе скажу, дело это было.
***
Ведь я глуп, необразован, ведь я глупее вас, а езжу в каретах…

О цензуре
Вот, поглядите корректурный лист — точно клетки наделаны. Вот квадратик. Вот вместо «французская революция» поставлено — «события конца XVIII века», вместо «свобода» — «льготы», вместо «страна требовала себе прав» — «страна заявляла о своих нуждах»… Скажите пожалуйста, отчего всего этого нельзя сказать?..
- А, видно, нельзя. Вам ведь позволь только, — шутя сказал Ильменев, — вы в самом деле напишете такую нелепость, что страна требует себе прав.
- Да ведь это о Мексике говорится.
- И Мексика не смеет требовать. Пусть заявляет о своих нуждах… Заявлять можно…
***
Скажешь, что богатые студенты плохо учатся и разъезжают только на рысаках, — вам говорит редактор, что вы восстановляете неимущие классы на имущих. Скажешь, что между дворянами есть дураки и негодяи, — говорят, что сословия раздражаешь. Выругаешь станового, — подрываешь доверие к администрации. Выведешь незаконную любовь, — говорят, нарушаешь святость брака… Грустных нот чтобы не было: понимаете, чтоб ликование было повсюду — блестящие балы, верные жёны, блаженствующие супруги, честные чиновники и благодарные мужики, со слезами радости встречающие своих господ.
О женском вопросе
- У такой хорошенькой, как вы, должна быть целая лавка самых свежих нарядов.
- Э, батюшка!.. Без этого мы обходимся. А вот скверно, когда в головке не совсем свежо.
***
А ещё лучше полнейшее незнание: в незнании — поэзия; пусть девушка думает, что мужчина только усами и бородой да платьем отличается от женщин, что брачные отношения заключаются в том, что муж щекотит свою жену.
***
- Отчего же вы в брате моём не отчаиваетесь?
- Он мужчина, а вы женщина. Он свободнее, чем вы…

О жизни
Надоела жизнь — а ты всё-таки живи; наконец, если слишком мерзко стало выкинь штуку какую-нибудь. Поди нагруби какой-нибудь важной птице, наделай ей пакостей. Немного и утешишься… Я иногда любуюсь штуками пьяных — не шутя. Тут бездна отваги, а отвагу я уважаю даже у пьяных…
***
Честность — понятие эластичное и гнётся под самым лёгким напряжением.
О знатности
Я бы ни за что не хотел происходить в особенности от остзейских баронов, потому что у них, говорят, господствует ленточная глиста.
***
Извините меня, но у нас, в Америке, честь мундира — нелепое выражение; у нас есть честь гражданина, человека, а чести мундира, фрака, чести галстука или какой другой принадлежности мужского туалета — нет.
***
Много ли у нас родов в самом деле доблестных? По пальцам перечтёшь. Да эти и ведут себя прилично. На неприличие идёт именно пустозвонное тщеславие, стремящееся к разъединению, к созданию замкнутой привилегии. И всё это, поверьте мне, червь крепостничества точит их, сожаление о прошлом ничегонеделании, о барстве подмывает их. Ведь они царьков в своих поместьях разыгрывали, крестьяне им руку целовали. Поверьте мне, все эти господа выеденного яйца не стоят.

О Петербурге
Для петербуржцев достаточно было бы десятка имен, чтобы отличить их друг от друга.
***
Да, безразличие и бесхарактерность — явление обыкновенное в таком обезличенном городе, как Петербург. Тут люди, как здания — по мерке выкроены и пригнаны друг к другу плотно; даже скала, на которой скачет Петр Великий, и та обтесана — это логично, ибо обтёска началась именно с Петра и продолжается до сего дня.
***
Это в Москве можно делать. Там всё ещё патриархами пахнет, а у нас попробуйте-ка… Тут, батюшка, уж европеизм, бюрократические тонкости…