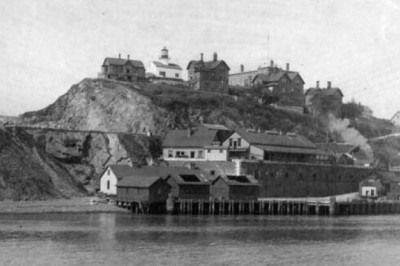Пассивное сопротивление: солдаты против войны
«Сапоги, хлеб, шинель и ружье — это все, что нужно воину, кроме убеждения, что война имеет смысл. Голодный, босый, невооруженный солдат — хороший материал лишь для бунта или для дезертирства». Так писал Александр Куприн, человек проницательный и зоркий. Он резюмировал неудачи Северо-Западной армии Н. Юденича в Гражданской войне, коим был свидетелем. Но все то же самое происходило и с Русской императорской армией в годы Первой мировой. В конце войны итог оказался неутешительным: солдат не видел смысла в войне, к тому же был дурно одет и обут, скверно накормлен, унижен и побит.
Количество дезертиров и уклонистов оценивалось современниками в миллионы человек. Чаще всего звучали оценки в 2−2,5 млн, реже более сдержанные (по оценке председателя Государственной думы М. В. Родзянко — около 1,5 млн). Большая часть дезертиров отказалась повиноваться командованию уже после февраля 1917 года, когда революционный взрыв снес окончательно дисциплину в армии и вообще весь привычный уклад жизни. Однако началось все гораздо раньше.
 Русские солдаты.
Русские солдаты.
По данным Ставки и гражданских учреждений, с начала войны и до февраля 1917 г. на фронте и в тылу удалось выявить 350 тыс. дезертиров, примерно в десять раз больше, чем у немцев или англичан за тот же период. Проблемы начались в основном в 1915 г., когда люди уже начали уставать от затяжной войны (крестьянское хозяйство не может долго протянуть без мужика, и бойцы крестьянской армии тянулись домой).
Воины бежали, как правило, из тыловых частей, из госпиталей и санитарных поездов, покидали эшелоны по пути на фронт. Имели место также симуляция и обычное уклонительство при призыве — чаще всего путем раздачи взяток взамен на признание призывника негодным. Покинуть окопы было труднее, чем не попасть в них, но солдаты находили способы и там. Например, самострел. Стреляли в руки и ноги, а чаще всего — по указательному пальцу правой руки. С такой травмой списывали как негодного к стрельбе. Членовредителей называли «палечниками», и победить это явлением удалось только введением за самострел смертной казни в 1915 г. (этот год стал самым сложным в этом отношении — до 20% всех ранений в войсках составляли самострелы). Те, кого не удалось уличить в членовредительстве, в госпиталях всеми силами мешали заживлению собственных ран — ковыряли их по ночам, посыпали солью и поливали керосином, чтобы воспалились.
 Русский военный госпиталь.
Русский военный госпиталь.
Серьезных масштабов принял и самовольный уход солдат в плен. Конечно, из около 2,4 млн пленных большая часть попала туда не по доброй воле, но все же немало людей решило таким образом закончить для себя войну. Уже в конце 1914 г. случались массовые сдачи в плен, причем в частях, которые не вели активных боев, не были окружены и т. д. Так, 7 декабря 1914 г. три роты 8-го пехотного Эстляндского полка перешли к врагу с белыми тряпками в руках. В том же месяце на глазах офицеров сдалась немцам группа солдат 336-го пехотного полка. В рождественские дни было несколько случаев братания с врагом (это явление, как и дезертирство, особенно расцветет в 1917 г.). Особенно часто в плен сдавались в 1915 г. во время «Великого отступления» русской армии. Солдаты просто задерживались в окопах, чтобы сдаться. Увеличилось и число пропавших без вести, среди которых так или иначе скрывалось множество сдавшихся в плен. Уходили нередко, прихватив с собой оружие и другое военное имущество, — пропаганда врага обещала за это деньги.
В первой половине 1916 г. все вроде стало получше — ненадолго остроту проблемы сняли репрессии (за дезертирство обещалась, конечно, смертная казнь, правда, строгость закона компенсировалась неисполнением), некоторое улучшение снабжения и укрепление дисциплины. Но так как причины моральной неустойчивости вполне не были устранены, то и дезертирство в разных формах вновь зацвело в конце года. А затем нежелание солдат воевать привело к печальным последствиям в петроградском гарнизоне и самом Петрограде вообще.
 Русские войска.
Русские войска.
Кризис доверия: репутационный крах монархии
Не стоит слишком сильно винить солдат. В 1914 году народ принял новость о начале войны с готовностью исполнить свой долг перед Отечеством и монархией. На призывные пункты явились миллионы. Почти ничего не уклонился, пришли — 96% процентов всех призывников, тогда как власти ожидали в лучшем случае 90%. Но готовность воевать быстро пошатнулась.
Причин для этого было много. Конечно, здесь и самое обычное малодушие, желание спастись во что бы то ни стало. Командование 3-й армии в 1915 году сообщало, что, по слухам, в плену воины постарше говорят, не стесняясь: «Слава Богу, что попали в плен, теперь останемся в живых».
К тому же никто не думал, что война продлится так долго, и тяготы ее будут столь велики. Солдаты много писали об этом в письмах домой. В 1915 г. командир 7-го корпуса А. Е. Гутор докладывал, что причина «в крайней напряженности современных боев, непрерывных отступлениях с боем, ряде бессонных ночей, голоде, порождавшем тупое безразличное настроение, при котором массы легко заражаются примером даже единичных мерзавцев, забывающих присягу…» Часто из окопов бежали даже не домой к семьям, а в соседние селения и города, ненадолго, чтобы потом вернуться, сочинив какую-нибудь более или менее правдоподобную легенду о причине отлучки. Воины просто хотели вырваться и уклониться от обязанностей позиционной войны — рытья окопов, вычесывания вшей и т. д. Они пропивали в тылу обмундирование и возвращались. Иные же, почувствовав вкус к тыловой жизни, оставались и становились «бродячими солдатами», перебивавшимися чем придется, вплоть до мародерства и грабежей. Несладко приходилось в то время и полиции — «бродячие» дезертиры, которых ловили на железных дорогах, часто дрались с ними и выбрасывали полицейских и жандармов из поездов.
 В окопе.
В окопе.
Помимо просто желания спастись от окопной грязи и покутить, были и более серьезные проблемы, из-за которых солдат пренебрегал чувством долга, не говоря уже о готовности к самопожертвованию, которую хотело бы видеть командование. И предложения не только судить беглецов, но и стрелять им в спину (в ряде случаев так и поступали, иногда даже формировали подобие заградотрядов), звучавшие от генералов Брусилова, Радко-Дмитриева, Иванова и др., не сильно помогли. Так же мало действовали и угрозы отправить после войны всех ушедших в плен по своей воле в Сибирь на постоянное поселение.
«За горох и чечевицу убегаю за границу»… — такие шутки шутили солдаты про самовольный уход в плен осенью 1916 года, когда в армии стало плохо с питанием. «Винтовочный голод», «снарядный голод» и просто голод на протяжении всей войны оставались большой трудностью. В начале войны многого еще не могла дать промышленность, но затем куда большую беду принесла разнузданная коррупция чиновников, промышленников и интендантов. Воровали на военных заказах повально, в результате в войсках все время чего-то не хватало. То снарядов нет, и русская артиллерия не может ответить вражеской, что долбит по русским окопам. То не хватает винтовочных патронов, то подков, то даже хлеба. Или вот привезли сапоги, а нога среднего размера не влезает даже в сапог большого (номинально) — поставщики сэкономили на материалах, а чиновникам дали взятку, чтобы принял брак. А вот привезли портки из дурной материи: наденешь их, присядешь и слышишь, как рвутся швы, — и здесь сэкономили. При такой заботе о солдате он становится как-то невосприимчив к пропаганде о чувстве долга.
 Солдаты в немецком плену.
Солдаты в немецком плену.
Журналист М. Лемке, оказавшись при Ставке в 1916 г., писал по поводу тотальной и безнаказанной коррупции: «Совершенно эпоха падения римской империи…» Нижние чины брали пример с высших. Нередко унтер-офицеры и интенданты требовали с солдат деньги за выдачу того, что им и так было положено — новая амуниция, например. Солдат все видел и проникался соответствующими настроениями. Были случаи, в которых перед самовольным уходом в плен группа солдат била офицеров и интендантов. Мстили им и за снабжение, и за отношение. В армии все еще много встречалось офицеров дурных, особенно с 1915−16 гг., только что из училищ, с самомнением вместо опыта. Прописать бывалому солдату тридцать розог (разрешенных с 1915 г.) за малый проступок было обычным делом во многих частях. Унизительное рукоприкладство тоже не считалось чем-то из ряда вон выходящим (хотя приличные офицеры, тем более на передовой, давно уже так себя не вели).
До 1917 г. все еще как-то держалось. Держалось на честном слове, на лучших военных традициях, на солдатском терпении и кадровых и умных офицерах, на дивизиях, которыми командовали добросовестные и умные генералы, что заботились о солдате. Постепенно их становилось все меньше. А толстосумов, наворовавших в тылу на военных заказах, — все больше. Отправляясь на фронт из Петрограда, чтобы проливать кровь за абстрактные и неясные «интересы России», солдаты видели чиновников в лучших ресторанах, обращающих деньги на оружие в потоки шампанского. Это зрелище оказалось куда красноречивее, чем слова пропагандистов о смысле войны. На таком фоне символ государства — монархия — бледнел с каждым днем войны. А еще ведь был Распутин, слухи о немецких связях императрицы и предательстве, экономические тяготы тыла, память о крепостничестве… К моменту, когда народу и армии представился шанс на бунт, проворовавшемуся и неумелому самодержавию оказалось нечего ему противопоставить.