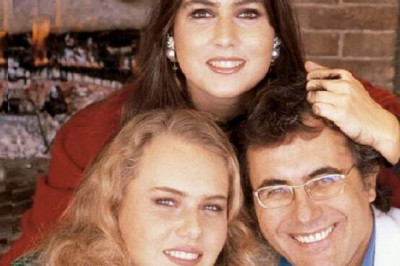«Будучи официальным обладателем фотокамеры, я смог запечатлеть все трагические периоды в Лодзинском гетто. Я делал это, осознавая, что если бы меня поймали, то меня и мою семью предали бы пыткам и убили бы».
«Я закопал свои негативы в земле, чтобы сохранить документы о нашей трагедии… Я ожидал, что польских евреев полностью уничтожат. И хотел оставить хронику нашего мученичества».
Генрик Росс, фотограф
«Сегодня красивый, солнечный день. Когда светит солнце, у меня поднимается настроение. Как грустна наша жизнь. Когда мы смотрим на ограждающий нас забор, наши души, как птицы в клетке, рвутся на свободу. Печаль рвет на части мое сердце, я вижу картины из прошлого. Буду ли я когда-то жить в лучшие времена?»
Из дневника неизвестной, 7 марта 1942 года
 Развалины синагоги
Развалины синагоги
«В комнате стояла большая кастрюля с водой, в которой что-то варилось. Я почувствовала очень плохой запах, посмотрела в кастрюлю и увидела, что там варится кожаный пояс от брюк. Я спросила у пани Розенберг: «Что вы варите?» Она ответила: «Когда-то это была кожа коровы или коня. Если пояс станет мягким, я его посолю и дам детям съесть».
Мириам Харел, 1942 год (18 лет)
«…О, как я измучена! Как я терзаюсь, оттого что Абрамек и Тамарочка были депортированы. О Боже, верни их ко мне, я не могу этого вынести, мое сердце готово разорваться… Я словно камня кусок, я даже плакать не могу… Когда я увидела фотографию Тамарочки, я вдруг осознала, что ей [сейчас] шесть, уже идет седьмой… В тумане своих слез я увидела испуганные глазки Тамарочки (так как она выглядит на фотографии)… Она, казалось, звала меня, звала на помощь… Я не сделала ничего… Я лежала в постели…».
Ривка Липшиц, 1943 год (14 лет)
 Табличка с надписью: «Жилая зона евреев. Вход воспрещен»
Табличка с надписью: «Жилая зона евреев. Вход воспрещен»
«Отяжелевшей головой наклоняюсь над дневником молодой еврейки из Лодзинского гетто. Дневник свежий, «еще теплый», как говорит Марыля, которая его нашла. Последние слова написаны всего несколько часов назад, в переполненном поезде, везущем их в Освенцим. Сейчас, когда я это читаю, автор дневника уже горит в яме возле крематория. Вот эти последние слова: «…а теперь мы едем в неизвестный край. Что нас там ждет? Что бы ни случилось, всюду лучше, чем там, за стенами… Проклинаю каждое воспоминание об этом аде. Проклинаю всех тех, кто выслуживался перед убийцами. И мою вечную темную, холодную, голую каморку на Бжезинской улице, и эту безжалостную стену, отгородившую нас от всего мира, и нашу неописуемую нужду, и мерный топот колодок перед рассветом, и чахотку, и страшную уголовную полицию. Проклинаю это место, лишенное и листочка зелени, место, где погибли мои лучшие годы, где умерли дорогие мне люди, где я отдала все свои силы смертельному врагу — взамен на продуктовую карточку.
Пишу в тесном уголке, полоса света падает на бумагу сквозь щель в вагоне. Два дня я ничего не ела. Ну что ж! Все-таки мы едем и видим сквозь щели золотистую рожь…».
<…>
Я продолжаю читать дневник, заглядываю в другую тетрадь, принадлежащую той же девушке. Нахожу там — стихи. Печальные стихи о гетто, о жизни прокаженных.
О голоде и преследованиях. Стихи мстительные, о владыках денег и фабриках оружия, о богах гетто.
Нахожу замечательный отрывок, благословляющий желтый свет фонаря, стоящего за стеной. Этот фонарь, свет из иного мира, проникает в темный угол поэтессы из гетто и позволяет ей творить».
Кристина Живульская, писательница
 Детей везут в лагерь смерти
Детей везут в лагерь смерти
«После работы мы садились вокруг родителей. Папуля и мамуля сидели на стульях, а мы — вокруг. Каждый вынимал свою порцию хлеба и чуть-чуть отламывал. Немного, чтобы что-то оставить на потом. А папа сидел на стуле и рассказывал историю своей семьи. Однажды, когда мы так сидели, каждый достал свою порцию хлеба, а папа только опустил голову. Он ничего не вынул. Тогда одна из моих сестер, Блюма, встала и сказала: «Папуля, у тебя уже не осталось хлеба». Она достала свой хлеб и протянула ему. Все перестали есть и дали отцу свои кусочки хлеба. Я тогда впервые в жизни увидела, как мой папа плачет. Он сказал: «До чего же я дожил! Вместо того, чтобы кормить своих детей, я ем хлеб, которым они кормят меня».
Эстера Шламович, 1942 год (13 лет)
 Депортация
Депортация
«Тяжелый удар поразил гетто. Они требуют от нас отдать самое дорогое, что у нас есть — детей и стариков. Я не удостоился иметь собственных детей, но лучшие годы жизни я отдал воспитанию сирот. В мои преклонные годы я вынужден умолять: Братья и сестры! Отцы и матери! Отдайте мне ваших детей… Вчера мы получили приказ выслать из гетто более 20 тысяч евреев. Нам сказали: «если вы не согласитесь, мы сделаем это сами». Я должен провести эту трудную и кровавую операцию — отсечь отдельные члены, чтобы сохранить тело… Я должен забрать у вас детей, потому что если я этого не сделаю, других, не дай Боже, тоже заберут. Я простираю к вам руки и умоляю вас: отдайте в мои руки эти жертвы, чтобы мы избежали новых жертв. Такая мне выпала судьба, сегодня я вынужден протянуть к вам руки и умолять: братья и сестры, отцы и матери, отдайте мне ваших детей!».
Отрывок из речи Хаима Румковского, главы юденрата Лодзинского гетто