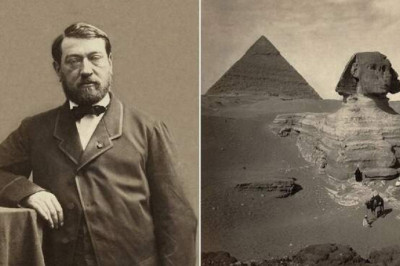Русско-казанская война 1505–1507 годов оказалась одной из самых масштабных военных кампанией Москвы вплоть до походов Ивана Грозного. По мнению ряда исследователей, именно этот вооружённый конфликт задал тренд на параллельное применение русскими войсками полевого и осадного артиллерийского наряда. Воеводы допустили немало досадных ошибок, однако военная катастрофа не только обернулась для Москвы политической победой, но и стала кровавым учебным полигоном для развития новой тактики и технологий, которые стали проникать в войско Великого княжества Московского в годы, предшествовавшие войне. Посмотрим, какие изменения произошли в вооружённых силах накануне войны, при Иване III, и в начале правления Василия III.
Конница, «подобная рою пчёл»
Ещё не так давно вопрос численности воинских контингентов в рассматриваемый период отдавался на волю фантазии исследователя. Источники скупы на подобную информацию — с тем же успехом можно подсчитывать количество орков под рукой у зловещего Саурона. Только со времён Ивана Грозного разрядные книги и другие сохранившиеся документы приводят более-менее подробные росписи полков по тем или иным военным кампаниям. Разумеется, настоящей жемчужиной в этом плане является разрядная книга Полоцкого похода 1562–1563 годов, изобилующая цифрами и данными.
 Всадник русской поместной конницы, XV–XVI века
Всадник русской поместной конницы, XV–XVI века
Что же касается более раннего времени, то исследователям приходится довольствоваться обрывочными сведениями из летописей, которые не дают полной картины, и нарративными источниками. Последние зачастую соблазняют «точными» цифрами, которые и сегодня то и дело ошибочно выдаются за чистую монету. Хотя на деле доверять им стоит не больше, чем прогнозу погоды на год вперёд.
Собственно, отсюда и произрастают корни несметной русской орды, берущей верх на поле боя не умением, а исключительно количеством. Например, учёный, богослов, священник и личный исповедник эрцгерцога австрийского Фердинанда Иоганн Фабри, писал в своём трактате «О религии московитов»:
«По этой причине за короткое время великий князь может собрать двести или триста тысяч или иное огромное число ратных людей, когда он намеревается вести войско против своих врагов — татар, каффского царя или кого-то другого. Словом, нет другого народа более послушного своему императору, ничего не почитающего более достойным и более славным для мужа, нежели умереть за своего государя. Ибо они справедливо полагают, что так они удостоятся бессмертия. С таким сильным войском из конницы, подобной рою пчёл, они часто одерживают решительные победы над турками, татарами и другими народами».
Итальянский церковный деятель Павел Иовий в своём тексте «Посольство от Василия Иоанновича, великого князя московского, к папе Клименту VII» приводит более скромные цифры, но и они завышены в разы:
«Василий может выставить в поле до 150 000 всадников, которые разделяются на полки; каждый полк имеет своё знамя и своего воеводу».
Возможно, более объективным в оценках был австрийский посол Сигизмунд Герберштейн — всё-таки он провел довольно много времени при дворе Василия III. Общая численность войск Великого княжества Московского в «Записках о Московии» не называется, однако Герберштейн пишет, что Василий
«каждый год ставит караулы в местностях около Танаиса и Оки в количестве 20 000 человек для обуздания набегов и грабежей перекопских татар».
От «дворового» к поместному войску
Как уже говорилось, до того, как сложилась поместная система, военные действия вели совсем немногочисленные и разрозненные княжеские дворы да городовые боярские полки. Хотя летописцы редко упоминали количество войск (да и нечасто у монахов был доступ к этой информации), отдельные сведения всё же просачивались.
В частности, по летописным сообщениям, в 1426 году город Псков отправил на выручку осаждённой литовцами Опочке всего полсотни бойцов «снастной рати», в то время как главные псковские силы насчитывали 400 ратников. В злосчастной же битве под Суздалем летом 1445 года, когда Василий II был разбит и попал в плен к казанским татарам, объединённые силы великого князя московского и удельных правителей Василия Серпуховского, Михаила Верейского и Ивана Можайского не дотягивали и до тысячи бойцов. Пришедший им на помощь владимирский городовой полк не превышал 500 человек. Конечно, битва под Суздалем — далеко не Мамаево побоище по своему масштабу, однако это одно из крупнейших сражений удельного периода.
 Зажиточный сын боярский. Рисунок Александра Красникова
Зажиточный сын боярский. Рисунок Александра Красникова
Во второй половине XV — начале XVI века ситуация кардинально меняется. В частности, по некоторым оценкам, в ходе войны с Литвой в 1500–1503 годах силы Великого княжества Московского могли достигать 16 000–20 000 конных ратников. Такие приблизительные цифры были получены методом экстраполяции данных по уже упомянутому Полоцкому походу Ивана Грозного и более поздним временам. В сохранившейся разрядной книге перечисляются только воеводы и земли, участвовавшие в русско-литовском конфликте начала XVI столетия. Однако разрядная документация за 1563–1651 годы уже содержит подробные росписи контингентов, которые выезжали на войну с тех же самых территорий. Если проследить динамику численности выставляемых от служилых городов войск за это время, то её можно с некоторыми оговорками экстраполировать и на 1500 год. Правда, необходимо учитывать, что к началу XVI века поместная система доминировала лишь в Новгородской и Тверской землях. Во всех остальных регионах она активно набирала обороты, но пока ещё уступала традиционной «дружинной» схеме комплектования войска — тем самым княжеским дворам и городовым боярским ополчениям.
Вместе с тем, по мнению историка Филюшкина, развеять миф даже о 75-тысячном московском войске времён Василия III не так и трудно. Скорее всего, принятое уже при Иване Грозном Уложение о службе лишь документально зафиксировало давно существовавший уклад, включая обязанность любого помещика выставлять одного снаряжённого конного воина с каждых ста четвертей доброй угожей земли (одна четверть — это примерно 0,5 га). Допустим, что 25 000 из 75 000 — это собственно помещики, а остальные 50 000 — их боевые послужильцы. Выходит, угожие (возделываемые) поместные земли Великого княжества Московского совокупно достигали 7,5 млн четей. Такая цифра кажется невероятной. Как считает Филюшкин, на деле можно говорить всего о 40 000–50 000 ратников в соотношении детей боярских и боевых послужильцев 1:1 — и это максимальная мобилизационная способность Русского государства первой трети XVI столетия.
 Послужилец сына боярского. Рисунок Александра Красникова
Послужилец сына боярского. Рисунок Александра Красникова
Переоделись и сбросили лишнее: ориентализация войска
Итак, как же выглядели и воевали ратники Великого княжества Московского? Вот что пишет об этом Сигизмунд Герберштейн:
«Лошади у них маленькие, холщеные, неподкованные, узда самая лёгкая, затем сёдла у них приспособлены с таким расчётом, что всадники могут безо всякого труда поворачиваться во все стороны и натягивать лук. Сидя на лошади, они так подтягивают ноги, что совсем не способны выдержать достаточно сильного удара (копья или стрелы). К шпорам прибегают весьма немногие, а большинство пользуется плёткой, которая всегда висит на мизинце правой руки, так что в любой момент, когда нужно, они могут схватить её и пустить в ход, а если дело опять дойдёт до оружия, то они оставляют плётку и она свободно свисает с руки».
Словом, отличить московского конного ратника от татарского или османского становится всё сложнее со второй половины XV столетия. В историографии эта метаморфоза получила название «ориентализация» (от лат orientum — восток), то есть уподобление восточному образцу. Соответственно, уходит в прошлое и старый добрый таранный копейный удар, уступая место дистанционному лучному бою.
 Боевые холопы. Рисунок из «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна
Боевые холопы. Рисунок из «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна
И дело вовсе не в том, что русский «дружинник-рыцарь» как боевая единица оказался неэффективен против степного стрелка — достаточно вспомнить молодцев Владимира Мономаха, поставивших на колени половецкие степи. Да и татары хоть и покорили Русь, но всё же распробовали русский копейный бой — например, под Коломной в 1238 году, когда единственный раз за всю историю в битве погиб Чингизид, царевич Кюлькан, или же на Куликовом поле в 1380 году.
Однако, если перефразировать известную поговорку, счастье не в ратниках, а в их количестве. Подготовить традиционного средневекового дружинника стоило безумно дорого, ведь он носил груды брони и ездил на породистом боевом коне. Поэтому, как только усилившаяся Москва сама посмотрела в сторону завоеваний и стала нуждаться в многочисленном войске, лёгкий и сравнительно бюджетный ориентализированный всадник почти без боя вытеснил дорогостоящего «рыцаря» с копьём.
Для сравнения, стоимость породистого скакуна из Средней Азии или Персии порой достигала 50–100 рублей — позволить себе такие траты могли лишь князья и богатые бояре. Татарский же конь, судя по материалам духовных детей боярских, обходился всего в 5–8 рублей. Этот «малыш» высотой в холке в среднем 131,9 см был крайне вынослив, но нести на себе тяжёлого «кованного» ратника не мог. Вот и пришлось воинам сбросить лишнее и переодеться в лёгкую восточную броню. Кроме того, тяжёлые доспехи только мешали и сковывали движения в условиях преимущественно дистанционного боя и малой войны.
В чешуе, как жар горя: защита и вооружение
Комплексы защитного и наступательного снаряжения русского и татарского всадника сильно походили друг на друга и имели общие иранско-османские корни. К слову, именно на это время приходится расцвет оружейных центров в Османской империи и Иране, которые стали крупными поставщиками продукции, а заодно и образцами для подражания среди русских и татарских мастеров. В Великом княжестве Московском активно брали на вооружение восточные сабли, кольчато-пластинчатые и кольчатые доспехи и т.д.
 Воины русской поместной конницы, середина XVI века
Воины русской поместной конницы, середина XVI века
Из брони широкое распространение приобрели кольчатые панцири (пансири). На Руси они были преимущественно короткими и доходили до пояса или чуть ниже, имели рукава до локтя. Собственно кольчугой уже называют доспех из плоских в сечении колец. Реже применялись байданы — панцири из широких колец, как правило, с глубоким вырезом на груди.
Пожалуй, наиболее эффектно выглядели доспехи кольчато-пластинчатой системы. Недаром и отечественные, и зарубежные кинематографисты то и дело норовят одеть в них даже персонажей XII или XIII веков. Появилась такая защита лишь в XIV веке, а широкое распространение получила в следующем столетии. Этата броня обладала относительной лёгкостью, эластичностью и довольно высокими защитными свойствами. Самое широкое распространение получили три вида защиты:
- колонтарь (калантарь): вплетённые в кольчужную основу крупные металлические пластины не соединяются друг с другом;
- бехтерец (бехтер): несколько параллельных вертикальных рядов мелких размещённых внахлёст пластинок в кольчужной основе;
- юшман: небольшое количество крупных пластин, вплетённых в кольчатую структуру.
Подобно казанцам, далеко не все русские ратники воевали «в чешуе, как жар, горя». Большинство довольствовалось стёгаными тегеляями (от старомонгольского «дэгель» — одежда). Если в двух словах, то это многослойный, подбитый шерстью, пенькой и прочим стёганый кафтан с короткими рукавами и высоким стоячим воротом. Чаще всего носился он отдельно, хотя более состоятельные ратники могли комбинировать его с кольчугой или кольчато-пластинчатой бронёй. Впрочем, разрядные книги и другая сохранившаяся документация второй половины XVI века и более поздних времён показывают, что «бездоспешной» могла быть половина войска и даже более. Едва ли ситуация кардинально отличалась при Василии III.
В бой старались идти с холодной, но защищённой головой — по крайней мере, состоятельные воины. Из боевых наголовий широко применялись как мисюрки и ерехонки, так и высокие сфероконические шлемы. Щиты к этому времени полностью вышли из обихода, а копья стали редкостью, присутствуя в арсенале лишь самых богатых всадников. Хотя длиннодревковое оружие, должно быть, широко применялось пешими судовыми ратями.
 Знатный воин в бехтерце, начало XVI века. Реконструкция М.В. Горелика
Знатный воин в бехтерце, начало XVI века. Реконструкция М.В. Горелика
И снова обратимся к наблюдательному Сигизмунду Герберштейну:
«Обыкновенное оружие у них составляют лук, стрелы, топор и палка наподобие булавы, которая по-русски называется кистень, а по-польски басалык. Саблю употребляют более знатные (…) Хотя они держат в руках узду, лук, саблю, стрелу и плеть одновременно, однако ловко и без всякого затруднения умеют пользоваться ими».
Неудивительно, что изначально огнестрельное ручное оружие вызывало резкое неприятие среди детей боярских. Дело было не только в крайне низкой скорострельности и дальности поражения первых пищалей и ручниц. Конный лучный бой — это целое искусство, на овладение которым приходилось потратить полжизни. Воинское сословие осознавало себя носителем уникального знания, которое бережно передавалось от отца к сыну. Пищальный же бой того времени не требовал столь длительной подготовки и был доступен даже для обычных горожан, спешно поставленных «под ружьё».
Как правило, московский всадник был укомплектован саадаком — набором из налучья, лука, стрел, колчана и портупеи. И снова нет различий между русским и казанским воином: оба мастерски орудовали сложносоставным луком «татарского» (или османско-иранского) типа. Этот «пулемёт» своего времени в умелых руках обладал скорострельностью приблизительно в десять выстрелов в минуту против двух у пищали и бил на 100–150 м.
Неплохо выстрелили: артиллерия Великого княжества Московского
Артиллерии первого русского царя, такой же грозной, как и он сам, посвящено немало исследований. Недаром пушки второй половины XVI века использовал даже Пётр Великий в ходе Северной войны со Швецией. Наверное, и сейчас выкати какого-нибудь «Инрога» или «Льва» из Артиллерийского музея, прочисти, заряди — и хоть снова в бой. Однако русская артиллерия представляла серьёзную силу и до времён Грозного царя.
Первые железные пушки — тюфяки — появляются на Руси ещё в XIV веке. Летописи говорят о наличии таких орудий в Москве в 1382 году, когда город осаждал хан Тохтамыш. Но по-настоящему весомым аргументом артиллерия Русского государства становится со времён Ивана III. В конце XV столетия приглашённый в Москву итальянский мастер на все руки Аристотель Фьораванти организовал в стольном граде пушечную избу, первое упоминание о которой в источниках относится к 1475 году. Вскоре она переросла в пушечный двор. Началось активное литьё более совершенных медных орудий. На первых парах тон в развитии русской артиллерии задавали приглашённые мастера-иностранцы, преимущественно немцы и итальянцы. Русские мастеровые люди активно перенимали у них эти бесценные умения.
 Тюфяк XIV века. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
Тюфяк XIV века. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
Да, до «прекрасной артиллерии из бронзы всех родов», о которой позже писал английский посол Флетчер, было ещё далеко. Но именно грамотно размещённые артиллерийские орудия помогли московским войскам отстоять броды и остановить татарское наступление в ходе Великого стояния на Угре, когда «наши стрелами и пищалями многих побиша». До этого артиллерия в прямом и переносном смысле неплохо выстрелила во время покорения Иваном III Новгорода в 1478 году. Другой пример успешного применения русскими огненного боя — это короткая московско-ливонская война 1480–1481 годов. Конфликт окончился безоговорочной победой московских сил, проникших вглубь территории Ливонского ордена и взявших целый ряд укреплённых пунктов. В частности, в ходе штурма крепости Феллин московские войска «начаша крепко приступати под город с пушками и с пищалями, и с тюфяками, и разбившее стену, охабень Велиада взяша». Не обошлось без грохота русских орудий и в 1487 году, когда войска Ивана III впервые взяли Казань.
При Василии III развитие артиллерии продолжилось. Ещё одним военным успехом Москвы, который был бы невозможен без участия представительного артиллерийского наряда, стало возвращение Смоленска в 1514 году. Сигизмунд Герберштейн писал:
«Теперь князь Василий имеет пушечных литейщиков, немцев и итальянцев, которые, кроме пищалей и воинских орудий, льют также железные ядра, какими пользуются и наши государи. Но московиты не умеют и не могут пользоваться этими ядрами в сражении, так как у них всё основано на быстроте».
Вместе с тем пушки начинают всё чаще применяться не только для осады и взятия городов и крепостей, но и для полевого боя. По мнению военного историка Виталия Пенского, именно начиная с русско-казанской войны 1505–1506 годов малый (полевой) наряд становится неотъемлемой частью любого похода. К сожалению, применительно ко второй половине XV — первой трети XVI века в источниках почти нет сведений о численности артиллерийского парка и организационных аспектах применения «огненных нарядов». Видимо, в этот период они не выделялись в самостоятельные полковые формирования под начальством отдельных воевод. Во время рассматриваемой нами русско-казанской войны артиллерийские соединения входили в Большой полк под командованием брата великого князя Дмитрия Жилки.
 Осадная пищаль «Лев». 1590 год. Мастер Андрей Чохов. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
Осадная пищаль «Лев». 1590 год. Мастер Андрей Чохов. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
Пожалуй, ахиллесовой пятой артиллерии Великого княжества Московского было отсутствие пушкарей как постоянного и отдельного рода войск, который сложится только во времена Ивана Грозного. Изначально же стрелками на поле брани выступали сами мастера, создававшие орудия. Соответственно, риск гибели или пленения мастеровых людей особенно подрывал боеспособность государства.
В этом плане показателен рассказ всё того же Сигизмунда Герберштейна о приёме пушкарей, прошедших войну с Казанью 1505–1506 годов, у великого князя московского. Нескольких из них государь принял благосклонно и даже щедро наградил. Но одному достался, как бы сказали сейчас, строгий выговор с занесением в личное дело. Нет, пушкарь «отличился» вовсе не трусостью или попыткой дезертирства, как было бы логично предположить. Напротив, в ходе панического отступления московских войск он умудрился спасти не только себя, но и своё артиллерийское орудие. Каково же было его удивление и разочарование, когда великий князь заявил:
«Подвергнув себя и меня такой опасности, ты, вероятно, собирался или бежать, или сдаться врагам вместе с пушкой; к чему это нелепое старание сохранить орудие? Не орудия важны для меня, а люди, которые умеют лить их и обращаться с ними».
Словом, излишняя инициатива всегда наказуема. Конечно, подтвердить или опровергнуть правдивость этого рассказа не представляется возможным, ведь нарратив не следует воспринимать как истину в последней инстанции. Вместе с тем такое сообщение, будь оно даже выдумкой или непроверенной сплетней, не могло появиться на пустом месте.
 ушечный двор в Москве, XVI век. Художник А. Васнецов
ушечный двор в Москве, XVI век. Художник А. Васнецов
«Пищалями многих побиша»
Государевы стрельцы, которым даже «живьём брать демонов» не страшно, стали одним из символов Московского царства. Прославленный образ сурового бородатого парня в малиновом кафтане, с пищалью и бердышом полностью заслонил своего скромного предтечу — пищальника.
Как считают многие исследователи, впервые этот род войск сыграл заметную роль во время уже упомянутого Великого стояния на Угре. Всё-таки несправедливо называть данный эпизод «стоянием», ведь на месте не стояли ни боевые действия, ни развитие военного дела. Впрочем, есть мнение, что применительно к XV столетию речь, как правило, идёт не об оружии ручного боя (ручницах), а об артиллерии. В свою очередь, мелькающие в актовых материалах «пищальники» — это те же пушкари, занимавшиеся изготовлением и обслуживанием артиллерийских орудий в бою.
Уже с начала XVI века войска ручного огненного боя стали принимать самое активное участие в военных кампаниях. К слову, Иван Грозный создал постоянные стрелецкие полки в 1547 году именно в результате выступления против него псковских пищальников-ополченцев.
Как пишет исследователь Руслан Скрынников, на службу в пищальники шли горожане, знакомые с кузнечным ремеслом. Правда, из сохранившихся источников трудно понять, всегда ли это были стрелки и ремесленники «в одном флаконе», подобно пушкарям. В одной из указных грамот рязанского великого князя Ивана Васильевича Третного Большого говорится:
«А приходу к Златоусту (церкви Иоанна Златоуста в Переяславле Рязанском) серебреники все да пищальники».
Казалось бы, упоминание пищальников в паре с серебрениками явно выдаёт в них ремесленников, а их приписка к конкретному церковному приходу говорит о том, что они компактно проживали на какой-то городской территории и на постоянной основе занимались своей деятельностью. С другой стороны, в переписных книгах по Новгородским пригородам за 1500 год пищальники фигурируют как нетяглое население вместе с воротниками, то есть городской стражей. Здесь уже они указываются в связке с ратными людьми, и снова имеются в виду не ополченцы, а представители постоянной страты. В свою очередь, в 1510 году в Псков вместе с Василием III прибыли «1000 пищальников казённых».
Вдобавок в источниках неоднократно всплывают сведения о срочных наборах таких войск из числа посадских людей по случаю той или иной военной кампании. Например, в 1508 году Василий III вмешался во внутренний конфликт в Великом княжестве Литовском, для чего, по сведениям разрядной книги 1475–1605 годов, «велел з городов нарядить пищальников и посошных людей и послать к ним в Дорогобуж». Соседство с крестьянской посохой явно указывает на ополченческий характер контингентов.
 Ручница, 1375–1450 годы
Ручница, 1375–1450 годы
Наконец, о наборе вооружённого пищалями ополчения говорят «Разрядный и разметный списки о сборе с Новгорода и Новгородских пятин ратных людей и пороха по случаю похода Казанского», датированные сентябрём 1445 года. Очевидно, что при наличии немногочисленной прослойки несших постоянную службу казённых пищальников по мере надобности привлекались дополнительные силы из числа горожан. Их мобилизация походила на сбор крестьянской посошной рати. Определённое количество дворов, от трёх до семи, должно было снарядить одного ратника, вооружённого пищалью и имевшего боеприпасы с обмундированием. Разумеется, как и любое ополчение, после окончания военных действий эти отряды распускались.
Воевали пищальники пешими, но на маршах для быстроты могли перемещаться верхом. Подобно поместным всадникам, организационно они делились на сотни, во главе которых стояли сотники из детей боярских. В отличие от крестьянской посохи, выполнявшей сугубо вспомогательные инженерные функции, пищальники непосредственно участвовали в боевых действиях. Между тем в силу несовершенства первых пищалей и ручниц, а также сравнительно низкого уровня подготовки самих стрелков на заре русской пороховой революции, эти контингенты имели явно оборонительный характер. Впрочем, это нисколько не умаляет их пользы при защите укреплённых пунктов и при позиционных действиях в полевых условиях.
Новая война: малая, да удалая
Итак, при Иване III и Василии III окончательно складывается новая тактика, сочетавшая манёвры быстрой и относительно лёгкой поместной конницы с действиями артиллерии и пищальников. При этом московские воеводы старались по возможности избегать крупных (генеральных) сражений, придерживаясь так называемой малой войны. То есть упор делался, с одной стороны, на стремительные рейды всадников с целью разорения и опустошения территорий противника, а с другой — на взятие и удержание вражеских городов и крепостей при помощи артиллерии. Объяснялось это тем, что даже полный разгром неприятеля в «рыцарской» схватке в итоге мог не принести ничего, кроме красивых сюжетов для хронистов, поэтов и пропагандистов. Именно такой эффект возымела, скажем, убедительная победа Литвы под Оршей 8 сентября 1514 года, хотя в целом войну выиграла Москва, вернувшая и надолго сохранившая за собой Смоленск.
 Битва под Оршей. Картина неизвестного художника. Из фондов Национального музея в Варшаве
Битва под Оршей. Картина неизвестного художника. Из фондов Национального музея в Варшаве
Если же избежать полевого сражения не получалось, то в дело шли «татарские» приёмы. Русская конница до последнего уклонялась от ближнего боя, предпочитая массированную стрельбу из луков и метание в неприятеля дротиков. Активно использовалась описанная Герберштейном восточная «пляска», когда всадники «изгибают войско и носятся по кругу, чтобы тем удобнее и вернее стрелять во врага». Только после этого они бросались на неприятеля, стараясь ошеломить и расстроить его порядки. Когда это не удавалось, прибегали к ещё одной заимствованной с Востока хитрости — ложному отступлению. Как и татары, русские всадники при этом не стеснялись пускать стрелы назад в преследователей. Главным образом такой манёвр должен был усыпить бдительность противника с тем, чтобы неожиданно развернуться и снова пойти в атаку. Или же наступающего неприятеля стремились подвести под удар заранее подготовленных позиций артиллерии и пищальников. Да, реализовать такую схему во время русско-казанской войны 1505–1506 года не удалось, но в последующих столкновениях с татарами московские войска не раз успешно её применяли.
К слову, наряду с ориентализацией и пороховой революцией важным фактором усиления Русского государства стало изменение принципов командования и планирования военных операций. Прежде всего, был учтён печальный опыт пленения Василия II в битве под Суздалем. Сам великий князь больше не присутствовал лично на поле боя, а действовал через назначенных им воевод. Как следствие, постепенно отлаживались механизмы сообщения и информационного обмена между войсками и управляющим центром. Государь, он же верховный главнокомандующий, в большей степени курировал вопросы стратегического масштаба: вёл переговоры с противниками и союзниками, определял общее направление действий на ключевых театрах. В тактическом же плане карт-бланш давался высшим военачальникам. Подобную картину источники рисуют относительно и новгородской кампании Ивана III 1471 года, и русско-казанской войны, и Великого стояния на Угре.
Кроме того, войска всё чаще делились на несколько групп, которые продвигались по разным направлениям, выполняя свои тактические задачи и тем самым работая на общую стратегическую цель. Яркий пример такого подхода — многочисленные казанские кампании Ивана III, а затем и Василия III. К слову, по мнению военного историка Ю.Г. Алексеева, наиболее ярко изменения в русском военном руководстве видны на примере казанского похода 1469 года, когда
«послал великий князь Московский брата своего Юрья под Казань со всею силою устюжскою и московскою, конною и судовою».
Алексеев был убеждён, что уже тогда складывалось отдельное военное ведомство, лёгшее в основу будущего Разрядного приказа.
К сожалению, согласовать действия разных групп войск получалось не всегда, что периодически приводило к поражениям и даже разгромам. Именно так и произошло во время русско-казанской войны 1505–1507 годов. Нередко корни несогласованности крылись в местническом порядке назначения воевод, когда во главу угла ставились не воинские заслуги и умения, а знатность рода.
Продолжение: Русско-казанская война (1505—1507): ногайский фактор